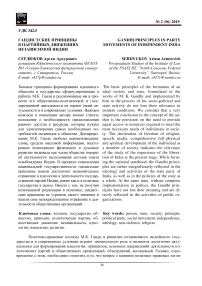Гандистские принципы в партийных движениях независимой Индии
Автор: Сердюков Артем Артурович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 2 (56), 2019 года.
Бесплатный доступ
Базовые принципы формирования идеального общества и государства, сформулированные в работах М.К. Ганди и реализованные им в процессе его общественно-политической и государственной деятельности не теряют своей актуальности и в современных условиях. Важным выводом в концепции автора можно считать положение о необходимости предоставления равного доступа к ресурсам, которые нужны для удовлетворения самых необходимых потребностей индивидов в обществе. Декларирование М.К. Ганди свободы вероисповедания, слова, средств массовой информации, всестороннее полноценное физическое и духовное развитие индивида как члена общества говорит об актуальности исследования сегодня опыта освобождения Индии. В процессе становления национальной государственности гандистские принципы нашли достаточно незначительное отражение в идеологии и деятельности государственной партий Индии, равно как и в политике государства в целом. Вместе с тем, не получив полноценной реализации в политике, гандистские принципы не утратили своего значения и нашли свое непосредственное отражение в деятельности общественных организаций.
Человек, государство, общество, принцип, политическая партия, общественное движение, независимость, идеология, ненасилие, религия
Короткий адрес: https://sciup.org/142232878
IDR: 142232878 | УДК: 342.5
Текст научной статьи Гандистские принципы в партийных движениях независимой Индии
Политико-правовые взгляды М.К. Ганди в развитии независимого индийского государства и в современных условиях играют значительную роль и являются достаточно актуальными для формирования идеологии, принципов, основных направлений деятельности политических партий и общественных организаций, объединений, ассоциаций. Однако, одновременно с этим, необходимо отметить и то, что вопрос о влиянии политико-правовых взгля- дов М.К. Ганди на государственную, общественную, культурную, духовную сферу современного независимого индийского государства становится дискуссионным.
В данном вопросе считаем необходимым отметить мнение О.В. Мартышина, который указывал, что в сегодняшних реалиях значение взглядов М.К. Ганди предельно мало, а несостоятельность преемников М.К. Ганди – не единственное и, даже, не главное условие снижения роли его доктринальных положений. Потому что претерпели значительные изменения те уникальные формы и условия, благодаря которым был реализован в полной мере невероятный успех тактики великого государственного деятеля и философа и аккумулирующая всю нацию цель – независимость Индии - была успешно достигнута. Вместе с тем, национальное единство было надломлено, углубилась религиозная, этническая, классовая дифференциация. Доминирующая политическая партия утратила потребность в применении практических принципов гандистской доктрины и использовала идеи Махатмы, его влияние и престиж только в рамках агитационных установок [1, с. 105].
По нашему мнению, в независимой Индии у гандистских принципов были свои сторонники и последователи, которые развивали и дополняли их собственными концептуальными положениями. Стоит отметить, что при всем этом, совершенно естественно, гандистские движения в истории индийского государства во второй половине XX века, как и сама мировоззренческая система и сущность гандистских принципов, под влиянием объективных и субъективных факторов подверглись определенным изменениям, имеющим эволюционный характер. На наш взгляд, все это происходило в силу того, что в процессе становления этнической государственности гандистские принципы не в полной мере были отражены в идеологии и деятельности правящей партии Индии, также как и в политическом курсе государства в целом. Тем не менее, не получив полномерной реализации в государственной политике, не лишенные своего сущностного смысла гандистские принципы нашли свое непосредственное отражение в деятельности общественных организаций, объединений и ассоциаций. Например, в начале второй половины прошлого века (1950-1970 годы) реализация гандистских принципов была аутентифицирована с движением «Сарводайя», аккумулировавшим после смерти М.К. Ганди существовавшие до этого суверенные независимые гандистские объединения.
Рассматривая эти проблемы, А.Г. Володин отмечает, что та идеология, на основе которой под руководством единомышленника и ученика М.К. Ганди Бхаве развивались крупные гандистские кампании 1950-1960 годов «Бхудан» и «Грамдан», сменилась концепцией «глобального переворота» Нараяна. Нараян принимал активное участие в деятельности государства и при этом полемизировал с Бхаве, который в свою очередь утверждал, что истинный настоящий гандизм основан, прежде всего, на невмешательстве в государственную борьбу, и акцентирован на проведение общественной работы, способной привести к «реформе в сердцах людей». В силу всех этих обстоятельств, конечным результатом противоречий между Бхаве и Нараян, двух государственных персон, представлявших собой абсолютно противоположные типы лидеров, явилась дифференциация движения «Сарводайя» [2, с. 57]. А со второй половины 70-х годов начался новый этап в дальнейшем развитии гандистского учения о независимом индийском государстве, который был связан с обращением общественных, пацифистских и экологических движений, выступающих против обособленных структурных элементов деятельности государства, проводимой правительством Индии к фундаментальным началам и методологическим основам М.К. Ганди.
Исследование и анализ особенностей функционирования этих политических и общественных движений позволяет делать вывод о том, что многие из них в своей тактической и практической деятельности активно применяли как гандистские принципы, так и методы защиты и сопротивления, выработанные М.К. Ганди. По мнению А.В. Горева, первым в числе таких движений стало «Чипко андолан», которое возглавил Чанди Бхатта, появившийся на политической арене в 1973 году. В те годы, когда стоял во главе руководства данного движе-

ния, Чанди Бхатта в целях оптимизации вырубки лесных массивов предлагал применять методологию ненасильственного противодействия и, вообще, он постоянно акцентировал внимание на том, что конечной целью этого движения выступает, прежде всего, «воспитание в человеке любви к натуре природы» [3, с. 128]. Однако уже в середине 1980-х годов в Индии появляется и начинает активно развиваться политическое движение, которое стало называться «Нармада бачао». Руководителем «Нармада бачао» становится Медха Паткар, при этом руководителе осуществляется попытка при помощи привлечения общественного внимания к вопросу местного значения, а именно – сооружения речных плотин – реформировать мировоззрение всего индийского социума. С этой целью Медха Паткар и совместно с Баба Амте, который был активным участником движения «Нармада бачао», организовывали специальные мероприятия – падаятры, в процессе которых неоднократно говорили о необходимости и первостепенном значении соблюдения в обществе гандистских принципов ненасилия, любви и уважения во взаимоотношениях людей.
Следует отметить, что политические движения 70-х годов XX – начала XXI вв., в основе деятельности которых были гандистские принципы, имели ряд особых отличительных черт, а именно обобщенность и единую систему мировоззрения. Эта система отличается тем, что в ней гандистские принципы сочетаются с социализмом, марксизмом, христианством и другими религиозными направлениями, мировоззренческими концепциями и теориями, что не препятствовало лидерам данных политических движений считать себя прямыми адептами М.К. Ганди. В целях составления более полной характеристики вышеназванных движений можно выделение такой типичной особенности, как обособленность от государственной деятельности, одновременно сочетающаяся со стремлением принимать активное участие в государственной жизни социума, воздействовать на процесс принятия решений в управлении государством и обществом. Вместе с тем, эту обособленность от государственной деятельности можно объяснить стремлением изменить непосредственно саму концепцию государственной власти, «восполняя» ее морально-этическими ценностями. Более того, политические движения 70-х годов XX – начала XXI вв. полностью придерживаются гандистских принципов неучастия в деятельности государства.
Д. Хардимэн, один из активных исследователей этих политических движений в Индии, охарактеризовал данную ситуацию проявлением тактики «многовариантной политики», благодаря которой в современной Индии повсеместно выполняются сатьяграхи. По его мнению, в этом плане таких лидеров, как Амте и Паткар, можно на самом деле считать истинными последователями М.К. Ганди в современной Индии, потому что они продолжают придерживаться альтернативных идиллических, антиимпериалистических и ненасильственных воззрений, реализацию которых мы можем увидеть сегодня, а также декларируют возрастающую роль моральных ценностей. Д. Хардимэн обращает внимание на то, что появление таких приверженцев гандистских принципов, как Амте и Паткар, «для большинства подтверждало и доказывало то, что у Индии и правда есть великая надежда на великое будущее» [4, с. 297].
На наш взгляд, ради объективности нужно подчеркнуть, что во второй половине XX века далеко за пределами индийского государства эти самые гандистские принципы достаточно широко применялись руководителями боровшихся против распространения европейского вмешательства и расовой стигматизации политических течений, а также участниками антимилитаристских, экологических и других общественных движений. Э.Н. Комаров и А.Д. Литман отмечают, что, действительно, эти деятели постоянно пытались восстановить и передать моральную и божественную практику М.К. Ганди, считая, что такой опыт будет содействовать импозантности и привлекательности любого государственного руководителя [5, с. 92]. На самом деле, немалая часть известных общественных деятелей западноевропейских стран воспринимала М.К. Ганди как человека, который благодаря своему внутреннему миру и умственным способностям стал великим святым, государственным деятелем, кардинально реформировавшим общество. При этом эти общественные деятели говорили о том, (и это подчеркивал и сам М.К. Ганди), что процесс трансформации человека в государственного деятеля и святого возможен для каждого человека, и эту возможность пытались реализовать многие известные государственные лидеры, руководствовавшиеся в своей деятельности ган-дистскими началами.
При всем этом, если, с одной стороны, следуя примеру М.К. Ганди и вслед за ним, который, будучи успешным юристом с элитарным образованием, полученным им еще в молодости в Англии, изменил свой образ жизни и стал народным лидером и представителем интересов нищих, говоря словами Черчилля, «нищим иллюзионистом», стремились изменить свой облик представители довольно состоятельных и уважаемых семей, а именно Мартин Лютер Кинг, Петра Келли и Су Чжи. Одновременно с этим, с другой стороны, к приверженцам идей М.К. Ганди можно причислить и тех лидеров, которые не придерживались гандистского принципа ненасилия в качестве символа, но вместе с тем определяли его как необходимый краткосрочный метод, действенный при определенных условиях. Т.Ф. Девяткина пишет о том, что в числе таких лидеров общественно-политических движений мы можем назвать имена Нельсона Манделы, Стива Бико, поэтому понятие «гандисты», которым этих лидеров охарактеризовали авторы, исследовавшие их государственную деятельность и политикоправовые воззрения, все же имеет определенный смысл [6, с. 112].
Стоит отметить, что под понятием «гандизм» в том аспекте, о котором говорилось выше, имеется в виду не столько представления и философия известного лидера отдельного общественно-политического движения, сколько определенная модель поведения в государственной сфере, базирующейся на вызове (в отдельных случаях абсолютно абстрактном), брошенном установленным в общественном сознании концепциям государственной власти и аппарату конкретного государства. При этом государство, обладающее властью, отождествляется с неким замкнутым на самом себе институтом, существующим исключительно благодаря насильственному методу, угнетению прав и свобод, всеобщей глобальной эксплуатации членов конкретного социума. В то же время, под понятием «гандисты» подразумеваются те, кто пытается реформировать данный институт, применяя абсолютно ненасильственные способы. Таким образом, общественно политическое явление или пользуясь другим термином, философское учение под названием «гандизм» под воздействием современных условий и веяний приобретает новый облик и понимание. Поэтому сегодня «гандизм» совершенно объективно может рассматриваться и оцениваться как универсальное направление в мировом общественно-политическом движении, которое сформировалось в Индии, однако обретает своих приверженцев и постепенно распространяется по всему миру, что обусловливает появление разнообразные новых определений взглядов М.К. Ганди.
Примечательно то, что на основе изучения всей научно-исследовательской литературы, которая имеет отношение к этому великому сыну Индии, по нашему мнению, можно сделать вывод о том, что обращение государственных деятелей Индии к имени и авторитету М.К. Ганди не всегда объясняется важностью и современностью гандистских принципов в силу того факта, что сущностные начала, предложенные М.К. Ганди, были определены и сформулированы гораздо ранее формирования его концепции.
Но, несмотря на это, уже на стадии предварительного сравнения моральных ценностей, выдвинутых в свое время М.К. Ганди, и тех установок, которые выдвигаются современными индийскими государственными и политическим деятелями в их программных документах, становится совершенно очевидным то, что ценности, на которые указывал великий государственный деятель-реформатор, даже если и генетически не заложены в духе и уме индийцев, то остались исторической памяти самого индийского народа, и более того, играют определяющую роль в жизни современного индийского общества.

По мнению А.А. Куценкова, именно данной ситуацией было обусловлено то, что обращение к «самоотверженности» (или гандистская тапасья), подвижничеству во имя нации в разные исторические периоды индийского государства проникало в высказывания таких известных общественно-политических деятелей Индии, как Атала Бихари Ваджпаи, Манмохана Сингха, Сони Ганди и т.д. [7, с. 49]. При этом нужно отметить, что мысль о необходимости повседневной заботы о бедных членах индийского общества (гандистская концепция служения Даридранараяну) и ответственности за это, а также основополагающий принцип «добровольного служения каждого на достижение благополучия всего общества» составляли неотъемлемую часть высказываний Сингха и Ваджпаи.
Одновременно с вышесказанным, объективности ради считаем необходимым отметить, что вместе с тем, мнение о том, что М.К. Ганди ввел в государственную культуру понятие ненасилия, которое оказало первостепенное влияние на последующее развитие Индии, не является абсолютно точным. Это связано с тем, что признание и широкое распространение идей М.К. Ганди, его постоянное «пребывание» на всех этапах развития независимой Индии обусловлено самой моделью лидерства, воплощенной М.К. Ганди, которая находит свое подтверждение в сформировавшейся на протяжении нескольких столетий индийской политической культуре. Если говорить более конкретно, то одной из специфических черт индийской политической культуры является то значение, которое индийцы придавали (и, как показывают современные исследования, придают) наличию у государственного лидера особых личностных свойств. При этом действительно, М.К. Ганди была присуща особая одаренность и привлекательность, что совершенно правдиво подчеркивается различными авторами и исследователями. Поэтому большой исследовательский интерес представляет ответ на вопрос о том, в чем именно заключались и в какой форме непосредственно проявлялись эти уникальные личностные качества.
М.К. Ганди – воистину великий сын своего народа и талантливый государственный деятель был лидером-пророком, на высоком уровне и со знанием дела, сочетающим в себе качества и свойства одновременно и идеалиста и прагматика. В то же время у него хорошо было развито чувство понимания политической реальности, он мог не только рассказывать об идеальном общественном устройстве сарводайи, но и убеждать в этом других, объяснять и вселять этот образ в общественное мнение и сознание.
В исследованиях, проведенных довольно большим числом авторов, обращается внимание на то, что в теоретической политологии М.К. Ганди находится в одном ряду с Моисеем как «народным вождем», в котором идеально претворились качества лидера-провидца. В связи с этим, авторы определяют М.К. Ганди как некую проекцию определенного типа государственного лидера, реализованную в данный исторический период. По мнению историков, государственная стратегия, относившаяся к Моисею, применима ко всем представителям этого ряда, в том числе, и одновременно М.К. Ганди.
В качестве определяющего качества реалистичности, объединяющего вышеназванных деятелей, выступает результативность их деятельности в направлении трансформации социума. Как пишет Л.Б. Алаев, предсказание М.К. Ганди, по аналогии с предвидением Моисея, обусловлено двумя факторами. Во-первых, прежде всего, детальным видением жизни при сварадже (в случае с Моисеем речь идет о Земле обетованной) и, во-вторых, тем, что предвидение передается последователям не просто в виде лозунгов, а в форме точно определенных практических задач [8, с. 105].
Безусловно, все это, в свою очередь, предоставляет приверженцам и последователям того или иного учения возможность самостоятельно оценивать преимущества предполагаемого будущего, и, одновременно с этим, также накладывает на них и определенные обязательства, четкое следование которым способствует воплощению в жизнь предвидения.
По нашему мнению, необходимо подчеркнуть, что формированию специфической и действенной в индийских условиях харизматичности личности М.К. Ганди способствовали его риторика и государственный имидж, а именно политика-гуру, попитша-саньясина, ведо- мого божественным голосом. На практике особо ярко эти моменты проявились во время «соляной» сатьяграхи 1930 года – акции, тщательно продуманной и особым образом выстроенной М.К. Ганди, которую впоследствии исследователи его биографии сопоставляли с блестяще поставленной театральной постановкой.
В современной Индии восприятие личности М.К. Ганди и его деятельности имеет свои особенности. С одной стороны, сегодня М.К. Ганди цитируется представителями всех ведущих политических партий и общественных движений, позиционировать и называться его последователями пытаются многие видные государственные и общественные деятели Индии.
При этом как основные теоретические установки гандизма как учения в целом, равно так и отдельные высказывания М.К. Ганди порой существенно искажаются, а его образу придается лишь сакральный статус. И все это способствует тому, что благодаря всему этому М.К. Ганди приобретает новую, символическую жизнь в современных условиях. И, как бы это ни было парадоксальным, с другой стороны, в массовой культуре индийского государства образ М.К. Ганди Махатмы, наоборот, лишается какой-либо священности, он начинает восприниматься не как важнейшая историческая фигура, но как обычный обыкновенный человек, живший и творивший в реальных условиях.
В целом, исследуя жизненный путь, политико-правовые идеи, особенности мировоззрения, реформаторские способности М.К. Ганди, можно сделать вывод о значительном и неоценимом вкладе М.К. Ганди в процесс становления и развития независимой Индии, о важности и актуальности гандистских принципов в формировании программ партийных движений современного индийского государства.
Список литературы Гандистские принципы в партийных движениях независимой Индии
- Мартышин О.В. Политические взгляды М.К. Ганди. М., 1970.
- Володин А.Г. Индия: становление институтов буржуазной демократии. М., 1989.
- Горев А.В. Наследие Махатмы: очерки. М., 2005.
- Hardiman D. The Moral Activists Lonely Path to Martyrdom. Gandhi in His Time and Ours. New Delhi, 2005.
- Комаров Э.Н., Литман А. Д. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди. М., 1969.
- Девяткина Т.Ф. Индийский национальный конгресс. М., 1970.
- Куценков А.А. Индия: традиционный социально-культурный комплекс и политика. М., 2015.
- Алаев Л.Б. Индийские идентичности в условиях модернизации. Глобализация и поиски национальной идентичности в странах Востока. М., 2017.