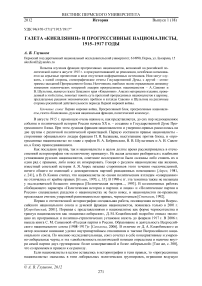Газета «Киевлянин» и прогрессивные националисты, 1915-1917 гг.
Автор: Глушков А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История сквозь призму медиа
Статья в выпуске: 1 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Попытка изучения фракции прогрессивных националистов, возникшей на российской политической сцене в августе 1915 г. и просуществовавшей до революции, неизбежно наталкивается на серьезные препятствие в виде отсутствия информативных источников. Ими могут служить, с одной стороны, стенографические отчеты Государственной Думы, с другой - стенограммы заседаний Прогрессивного блока. Источником, наиболее полно отражающим динамику изменения политических воззрений лидеров прогрессивных националистов - А. Савенко и В. Шульгина, является газета Западного края «Киевлянин». Анализ материалов издания, проведенный в этой статье, помогает понять суть претензий прогрессивных националистов к царизму, предлагаемые решения экономических проблем и взгляды Савенко и Шульгина на различные стороны российской действительности периода Первой мировой войны.
Первая мировая война, прогрессивный блок, прогрессивные националисты, газета "киевлянин", русская национальная фракция, политический консенсус
Короткий адрес: https://sciup.org/147203386
IDR: 147203386 | УДК: 94(470+571)"1915/1917"
Текст научной статьи Газета «Киевлянин» и прогрессивные националисты, 1915-1917 гг.
В августе 1915 г. произошло очень важное и, как представляется, до сих пор недооцененное событие в политической истории России начала XX в. – создание в Государственной Думе Прогрессивного блока. При этом думская фракция националистов и умеренно-правых раскололась на две группы с различной политической ориентацией. Первую составили правые националисты – сторонники официального лидера фракции П. Н. Балашева, выступавшие против блока, и «прогрессивные националисты» во главе с графом В. А. Бобринским, В. В. Шульгиным и А. И. Савенко, к блоку присоединившиеся.
Как последняя группа, так и националисты в целом долгое время рассматривались в отечественной историографии «по остаточному принципу». Не желая детально разбираться с идейными установками русских националистов, советские исследователи были склонны либо ставить их в один ряд с правыми, либо вовсе их игнорировать. Говоря о русском национализме как явлении, известный советский историк А. Я. Аврех называл сторонников этого течения «малочисленной, ничего общего не имеющей с демократизмом партией реакционных помещиков» [ Аврех , 1981, с. 241], а В. В. Комин считал, что националисты по своим политическим взглядам «совершенно» не отличались от крайне правых [ Комин , 1970, с. 35]. В 1990-е гг. эта тематика также не вызывала у исследователей большого интереса [Политическая история..., 1993]. В коллективных работах обобщающего характера «Политическая история в партиях и лицах» и «Политические партии в России» специальных разделов о националистах не было вовсе, и националистов по-прежнему продолжали считать умеренной разновидностью правых, черносотенцев [ Степанов , 1992].
Первая в отечественной историографии специальная работа, посвященная истории Всероссийского национального союза и думской фракции националистов, появилась только в 2001 г. [ Коцюбинский , 2001]. Порывая с представлениями о национализме как форме черносотенства и трактуя националистов как «национал-либералов», Д. М. Коцюбинский подробно описал эволюцию их программных и политико-стратегических установок вплоть до февраля 1917 г. В 2006 г. вышла книга С. М. Саньковой «Русская партия в России. Образование и деятельность Всероссийского национального союза (1908–1917)» [ Санькова , 2006]. В отличие от Д. А. Коцюбинского ее автор основное внимание уделил внутрипартийным отношениям и тактике Всероссийского национального союза. По мнению исследовательницы, союз сочетал в себе консервативные и умеренно-либеральные черты, и эта «двойственность политической позиции определила и наличие внутри самой партии двух группировок: более консервативной и более либеральной» [Там же, с. 300], что со временем и привело к ее расколу.
Если националисты в целом оставались в историографии в тени правых, то «прогрессивные националисты» оказались в тени либеральных политических группировок, игравшим ведущую
роль в Прогрессивном блоке. Лишь в самом общем виде этой проблематики в советское время касались А. Я. Слонимский [ Слонимский , 1975] и Е. Д. Черменский [ Черменский , 1976]. В работах двух последних десятилетий – О. Р. Айрапетова [ Айрапетов , 2003], Ф. А. Гайды [ Гайда , 2003] и С. В. Куликова [ Куликов , 2004] – в центре внимания оказался конфликт между либералами (главным образом кадетами) и бюрократами, тогда как консервативное крыло Прогрессивного блока особого интереса не вызывало. Несмотря на значительный прогресс в изучении русского национализма, достигнутый за два последних десятилетия, идеология и политическая практика прогрессивных националистов, их роль в Прогрессивном блоке так и не стали объектом самостоятельного исследования.
Необходимо отметить, что изучение данной темы сталкивается с объективными трудностями, вызванными недостаточной информативностью источниковой базы. Наряду с немногочисленными мемуарами участников событий (Шульгина, Гурко, Милюкова и др.) важное место в ней занимают стенограммы собраний бюро Прогрессивного блока и стенографические отчеты Государственной Думы IV созыва. Однако думские баталии были заключены в процедурные рамки, за пределы которых депутаты редко позволяли себе выходить. К тому же издевательское название фракции «молчаливой», закрепившееся за националистами еще со времен III Думы, оказалось вполне оправданным и в отношении прогрессивных националистов. В силу этого важнейшими источниками для изучения фракции оказываются не думские материалы, а «литературная и политическая газета юго-западного края» «Киевлянин», ставшая неофициальным рупором фракции.
Это издание Западного края, являвшееся одной из крупнейших нестоличных газет того времени, было основано в 1864 г. профессором Киевского университета В. Я. Шульгиным и выходило вплоть до 1919 г. С момента основания и до 1879 г. «Киевлянин» печатался трижды в неделю, а с приходом в редакцию отчима Шульгина Д. И Пихно – ежедневно. В 1890-е гг. издание являлось одним из крупнейшим в России – его тираж достигал 5 тыс. экземпляров . После смерти Пихно в 1913 г. газету возглавил сам Шульгин.
Официально «Киевлянин» не был печатным органом какой-либо организации, однако ее ведущие журналисты входили в Киевский клуб русских националистов, из которого впоследствии сформировалось «ядро» фракции националистов-прогрессистов. Вплоть до раскола русской национальной фракции «Киевлянин» одновременно оставался и изданием местного отделения Всероссийского национального союза.
Внепарламентские организации русских националистов начали появляться с 1908 г. Именно тогда оформился и ставший «ядром» движения в западной части империи «Киевский клуб русских националистов». Клуб был создан по инициативе А.И. Савенко и В.Е. Чернова с целью объединения сторонников идеи господствующего положения русского народа в империи. Количество членов клуба постоянно росло. Если в 1909 г. в нем числилось 326 человек, то в 1913 г. – уже 738.
В 1910 г. было официально заявлено о создании Всероссийского национального союза – организации с весьма пестрым составом и неоднозначной идеологией, сочетавшей в себе консервативные и либеральные черты. Именно это и привело в дальнейшем к серьезным идейным разногласиям внутри организации, а вместе с тем – в русском национализме в целом. Еще до начала Первой мировой войны в русском националистическом движении четко проявилась тенденция к сдвигу влево. Т. В. Локоть выступил с идеей национал-демократии, позволяющей учитывать интересы и общественные потребности простого народа [ Локоть , 1910]. В вышедшей в 1912 г. объемной брошюре «Русский национализм» утверждалось, что главнейшая задача русского национализма заключалась в укреплении начал гражданской свободы, дарованных русскому народу манифестом 17 октября [ Строганов , 1912, с. 108]. Схожие взгляды выразил А. Л. Гарязин, попытавшийся создать в 1914 г. на «национал-демократической» платформе Имперскую народную партию [Новая Россия, 1914, с. 15].
Еще накануне Первой мировой войны расхождения между сторонниками различных версий национализма перешли в организационную плоскость. Когда в 1913 г. П. Н. Балашев переизбирался председателем думской фракции националистов, 21 из 68 депутатов не поддержал его кандидатуру [Edelman, 1980, p. 180]. Спустя две недели после выборов президиума Савенко и Демченко опубликовали схожие воззвания в «Киевлянине», в которых заявили о наличии во фракции левого и правого крыла. В январе 1914 г. Савенко был переизбран председателем Киевского клуба русских националистов. В ответ консервативно настроенные националисты, в число которых входил и П. Н. Балашев, создали свою организацию – Киевское отделение Национального союза. В ситуации фактического организационного раскола важнейшим преимуществом для Шульгина и Савенко был контроль над «Киевлянином».
Их публикации редко перекликались между собой, существенно различаясь по форме и содержанию. Если Шульгин нередко печатал обширные серии статей с идеологической окраской, то Савенко редко пускался в абстрактные рассуждения и писал не слишком объемные материалы «на злобу дня». Западно-русская газета живо реагировала на происходившее во время Первой мировой войны в стране и Государственной Думе. Именно по «Киевлянину» можно проследить ход борьбы Савенко и Шульгина против черносотенцев и консервативной группы Балашева, а также постепенное сближение будущих националистов-прогрессистов с кадетами. Особенно интенсивно эти процессы протекали в условиях Первой мировой войны.
В январе 1915 г. Савенко опубликовал в газете статью с красноречивым названием «Кадетское просветление», где отметил, что «кадеты поумнели», с начала войны переменив свои позиции, а их лидер Милюков «неожиданно заговорил о наших собственных национальнополитических идеалах» [Киевлянин, 1915, 22 янв.]. Позже Савенко писал, что в условиях войны кадеты выросли и «из политических младенцев превратились в зрелых мужей» [Киевлянин, 1915, 2 авг.]. Аналогичным образом вел себя и Шульгин. Вернувшись с фронта накануне возобновления думской сессии в июле 1915 г., он выразил в разговоре с Милюковым восхищение патриотизмом кадетской партии [ Edelman , 1980, p. 210].
Раскол националистов, оформившийся в августе 1915 г., стал важным событием для «Киевлянина». В заявлении прогрессивных националистов о выходе из фракции, появившемся 13 августа, говорилось: «Разразившаяся над Россией война, к нашему великому сожалению, подчеркнула разницу в наших взглядах» [Киевлянин, 1915, 17 авг.]. Объясняя причины образования блока, Савенко писал, что «образование блока – ответ страны на успехи германцев» [Киевлянин, 1915, 31 дек.]. В своих статьях о блоке, он чаще всего пользовался выражением «блок национальной обороны». По его мнению, правительство без контролирующего и направляющего сотрудничества Государственной Думы и без воодушевленного содействия всей страны было бы не в состоянии добиться победы [Киевлянин, 1915, 3 сент.]. Ему вторил Шульгин, доказывавший, что для победы в первую очередь необходим внутренний мир, мир между народами, населяющими Россию и мир между партиями [Киевлянин, 1915, 7 дек.].
Заявления такого рода свидетельствовали о поддержке сторонниками блока пришедшей из Франции идеи «Священного единения», провозглашенной президентом Пуанкаре. Оно предполагало сплочение всех граждан страны во имя общей победы, общенациональный политический консенсус во имя национальной обороны [Мировые войны XX века, 2002, с. 312]. Но в отличие от Франции, где оппозиционные и проправительственные силы, левые и правые поддержали «Священное единение», в России эту идею отстаивала главным образом либеральная оппозиция.
Прогрессивные националисты упрекали правых в нежелании поддержать «Священное единение». Обличающие их статьи начали появляться на страницах издания вскоре после образования думского большинства. Савенко не только критиковал их взгляды, но и прямо обвинял в измене. Не отставал от него и Шульгин, назвавший правых «дворянами прусского двора» [Киевлянин, 1915, 7 дек.]. Савенко и Шульгин крайне болезненно отреагировали на состоявшиеся осенью 1915 г. съезды правых, «слеты черных птиц» [Киевлянин, 1915, 15 нояб.]. Они утверждали, что на съездах обсуждался вопрос о возможности заключения мира с Германией, допускать которого ни в коем случае не следовало [Киевлянин, 1915, 12 нояб.]. Несмотря на войну, было необходимо терпеть и продолжать бороться не только с врагом, но и с собственным малодушием.
Правых обвиняли в неконструктивности. «Вся политика крайне правых состоит из двух букв – “не”» [Киевлянин, 1915, 17 сент.]. Они всё отрицают, но ничего не предлагают взамен. Савенко писал, что, на словах выступая против всяческой политики и против созыва Государственной Думы, правые устраивают свои съезды и сами занимаются политической борьбой [Киевлянин, 1915, 28 дек.].
Лидеры прогрессивных националистов доказывали, что блок был образован не как инструмент борьбы за власть, а с целью содействия правительству в доведении войны до победного конца. «Думское большинство создано для борьбы с Германией – и ни для чего другого» [Киевлянин, 1915, 3 сент.], – утверждал Савенко. По его словам, блоку была совершенно чужда тенденция борьбы за власть и с властью. При этом автор оговаривался, что «блок будет вести политическую борьбу со всеми теми силами, которые могут помешать нашей победе над Германией. Сил этих две – революция и реакция» [Там же]. Тем самым признавалась возможность и естественность политического конфликта даже в военное время. «Утверждение о том, что война и политика несовместимы – совершенно неверное», – писал Савенко в декабре 1915 г. [Киевлянин, 1915, 28 дек.].
«Киевлянин» настаивал на том, что основным способом разрешения политических противоречий в ходе войны должен был стать компромисс. Призывы такого рода относились и к противникам, и к участникам блока. Савенко, высказывая убеждение в том, что роспуск Думы явился расплатой за образование в ней «блока национальной обороны», одновременно предостерегал коллег от выхода из особых совещаний [Киевлянин, 1915, 9 сент.].
Шульгин также со скепсисом относился к возможности добиться успеха исключительно силами думцев-прогрессистов. По его мнению, торопиться с созывом Думы после того, как она была распущена после образования Прогрессивного блока в начале сентября 1915 г., не стоило. Возобновление деятельности Думы имело бы смысл лишь тогда, «когда будет выношенная, разработанная и принятая большинством – мысль» [Киевлянин, 1915, 10 сент.]. Концентрация думского большинства на критике едва ли могла помочь делу. Похожим образом оценивал положение дел и другой лидер прогрессивных националистов – В. А. Бобринский, признававшийся на совещаний бюро блока у Меллер-Закомельского, которое прошло 25 октября, что созыв Думы «его страшит» [Прогрессивный блок..., 1932, с. 156].
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что до осени 1916 г. Савенко и Шульгин критиковали правительство подчеркнуто сдержанно. Лишь один раз, в феврале 1916 г., Савенко позволил себе довольно резко его осудить за отказ сотрудничать с большинством в Думе [Государственная Дума. Стенографические отчеты, стб. 2424]. И то данное критическое выступление было направлено скорее против действий и взглядов конкретных министров – А. Н. Хвостова и А. Д. Протоповова, не желающих идти на сотрудничество с Прогрессивным блоком.
Вообще с начала 1916 г. центр активности прогрессивных националистов переместился в стены Таврического дворца. Статьи Савенко стали все реже встречаться на страницах «Киевлянина», при этом их с Шульгиным думские выступления зазвучали гораздо резче и решительнее.
Авторы «Киевлянина» понимали, что в условиях военного времени требуются не только политические призывы, но и реальные меры, тем более что осенью 1915 г. ситуация на фронте и в экономической жизни страны продолжала стремительно ухудшаться. В это время прогрессивные националисты более активно стали обсуждать проблемы экономического характера. Общие соображения относительно путей разрешения экономических проблем в условиях войны Савенко и Шульгина сформулировали еще в октябре 1915 г.
Особое значение они придавали транспортному вопросу. По мнению Савенко, в разрухе, царившей в железнодорожных перевозках, была виновата не только война, но и изъяны в управленческом механизме. Одной из главных причин расстройства в железнодорожном ведомстве являлось то, что оно не было полновластным хозяином железнодорожных перевозок. Для установления порядка было необходимо планомерное и жесткое регулирование. Деятельность всех четырех Особых совещаний (по обороне, перевозкам, топливу и продовольствию), созданных в условиях войны, должен был координировать особый распорядительный орган. По правительственному проекту всеми вопросами должен был ведать военный министр, однако такой вариант Савенко считал неприемлемым, так как заботы о перевозках отвлекали бы министра от чрезвычайно важных дел по снабжению армии. По мнению журналиста, лицом, объединяющим в себе функции по обслуживанию тыла, должен был стать министр внутренних дел [Киевлянин, 1915, 25 окт.].
Аналогичным образом оценивал ситуацию и Шульгин. Осенью 1916 г. он констатировал, что ни одно из Особых совещаний не справилось с возложенными на него задачами. Хотя катастрофы не произошло, но дело так и не было доведено до конца [Киевлянин, 1915, 10 окт.]. Как и Савенко, Шульгин считал, что учреждение четырех Особых совещаний было ошибкой. И одного совещания по обороне было бы вполне достаточно. Другое дело, что утвержденные его председателем решения, должны были бы приниматься министрами не к сведению, а к исполнению [Киевлянин, 1915, 11 сент.]. При таком порядке председатель Особого совещания по обороне, он же военный министр, должен был одновременно являться председателем Совета министров [Киевля- нин, 1915, 3 февр.].
Помимо деятельности Особых совещаний осенью 1916 г. актуальность приобрел вопрос о твердых ценах. Шульгин указывал, что без права реквизиции продуктов твердые цены – «одно сотрясание воздуха» [Киевлянин, 1915, 27 сент.]. Отнимать же хлеб у населения по твердым ценам могут только представители государственной власти. При этом дешевый хлеб, предлагаемый государством, не дал бы возможности частным лицам повышать цены и умерил бы аппетиты производителей. Впрочем, последовательным сторонником жесткого государственного контроля над хлебной торговлей Шульгин не был и спустя несколько месяцев уже высказывался за полную отмену твердых цен [Государственная Дума. Стенографические отчеты, стб. 1496–1500].
Столь резкое изменение позиции Шульгина наглядно показало, что четкой альтернативной программы разрешения проблем, стоявших перед страной, ни у него, ни у прогрессивных националистов, ни у блока в целом не было. Савенко и Шульгин предпочитали критиковать сделанное правительством, но собственных развернутых вариантов разрешения экономических проблем не предлагали.
Осенью 1916 г. отношение блока к правительству приобрело откровенно конфронтационный характер. «Штурм власти» начался со знаменитого заседания Государственной Думы 1 ноября 1916 г., на котором прогрессивный националист Шульгин и кадет Милюков, по мнению многих, произнесли свои лучшие речи в Думе. Одновременно конец 1916 – начало 1917 г. стали временем заметного полевения фракции, особенно четко проявившегося в выступлениях Шульгина. Уже в январе 1917 г. он с горечью заметил, что признание необходимости Государственной Думы 3 июня и укрепление ее положения, достигнутое за последние годы, оказалось недостаточным. Течение войны показало, что необходимы и другие изменения. «Но еще важнее, быть может, то, что во время настоящей войны мы получили убеждение, что Россия не только остро нуждается в некоторых реформах, но и созрела для них» [Киевлянин, 1915, 8 янв.]. Другим свидетельством полевения Шульгина стала та роль, которую он сыграл при отречении Николая II от престола. Возможно, участие Шульгина в этом событии объясняется его желанием использовать последний шанс для спасения монархии. По другой версии, он хотел лично убедиться в том, что царю и его семье ничего не угрожает.
Так Шульгин объяснял свое поведение в воспоминаниях [ Шульгин , 1990, с. 522]. «По горячим следам» он свою позицию интерпретировал иначе: «Россия не могла простить своему Государю, что он вел войну так, что это грозило позорным миром. За это свое неумение царь должен был отречься от престола» [Киевлянин, 1915, 21 марта]. Судя по статьям в «Киевлянине», и ему была свойственна некая эйфория. В середине марта он отмечал «небывалое единение русского народа» [Киевлянин, 1915, 16 марта]. Однако уже в апреле Шульгина постигло горькое разочарование. Он констатировал, что не видит различия между действиями старой и новой власти. Все разница между ними сводились к тому, что если раньше преследовали социалистов, то теперь собирались преследовать монархистов. Новое «самодержавие» будет иметь своих колодников, и, как считал Шульгин, «этими колодниками будем мы – старая гвардия древней Киевской Руси» [Киевлянин, 1915, 6 апр.].
Итак, раскол русской национальной фракции в августе 1915 г. и создание фракции прогрессивных националистов, примкнувшей к союзу либеральных сил, оказались одним из редких в истории русского консерватизма эпизодов, когда либерально-консервативная коалиция стала реальностью. Союз консерваторов с либералами создавал возможность не только достижения успеха в войне, но и проведения глубоких реформ модернизационного характера. Важнейшую роль в его формировании должны были сыграть консервативные политические силы, воспринимавшие себя хранителями российской политической идентичности. Однако на сближение с левыми отважилась лишь часть националистов. Неготовность других консерваторов пойти навстречу либералам не позволила обеспечить широкий консенсус, подобный тому, который сложился во Франции и Великобритании. Вынужденные бороться на три фронта – против правых, правительства и крайне левых, умеренные консерваторы, прогрессивные националисты, не смогли оказать значительного влияния на развитие событий в стране. Это способствовало обострению политической ситуации и в конечном счете крушению монархии.
Список литературы Газета «Киевлянин» и прогрессивные националисты, 1915-1917 гг.
- Аврех А. Я. Царизм и IV Дума. М., 1981.
- Айрапетов О. Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и на революцию (1907-1917). М., 2003.
- Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти. М., 2003.
- Государственная Дума. Стенографические отчеты. Созыв IV. Сессия четвертая: заседания 17-37 (с 9 февр. по 15 марта 1916 г.). Пг., 1916.
- Киевлянин. 1915. Янв. -дек.
- Комин В. В. История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных партий в России. Калинин, 1970.
- Коцюбинский В. А. Русский национализм в начале XX столетия. Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001.
- Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи. Рязань, 2004.
- Локоть Т. В. Оправдание национализма. Киев, 1910.
- Мировые войны XX века. М., 2002. Т. 1.
- Новая Россия. Основы и задачи Имперской Народной Партии. СПб., 1914.
- Политическая история в партиях и лицах. М., 1993.
- Прогрессивный блок в 1915-1917 гг.//Красный архив. 1932. Т. 3.
- Санькова С. М. Русская партия в России. Образование и деятельность Всероссийского национального союза. Орел, 2006.
- Слонимский А. Я. Катастрофа русского либерализма. Душанбе, 1975.
- Степанов С. А. Черная сотня в России (1905-1914). М., 1992.
- Строганов В. Русский национализм, его сущность, история и задачи. СПб., 1912.
- Черменский Е. Д. IV Государственная Дума и свержение царизма в России. М., 1976.
- Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. М., 1990.
- Edelman R. Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: the Nationalists Party. 1905-1917. New Brunswick, 1980.