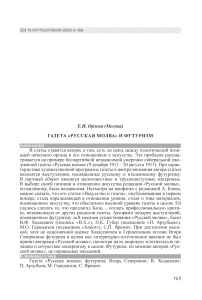Газета «Русская молва» и футуризм
Автор: Орлова Е.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится вопрос о том, есть ли связь между политической позицией печатного органа и его отношением к искусству. Эта проблема рассматривается на примере беспартийной независимой умеренно либеральной ежедневной газеты «Русская молва» (9 декабря 1912 - 20 августа 1913). При характеристике художественной программы газеты в центре внимания автора статьи находятся выступления, посвященные русскому и итальянскому футуризму. В научный оборот вводятся малоизвестные и труднодоступные материалы. В выборе своей позиции в отношении искусства редакция «Русской молвы», по видимому, была независима. Несмотря на конфликт с редакцией А. Блока, можно сказать, что его статья «Искусство и газета», опубликованная в первом номере, стала определяющей в отношении уровня, стиля и тона материалов, посвященных искусству, что обеспечило высокий уровень газеты в целом. Ей удалось сделать то, что предлагал Блок, - создать профессиональную критику, независимую от других разделов газеты. Авторами четырех выступлений, посвященных футуризму за 8 месяцев существования «Русской молвы», были В.Ф. Ходасевич (подпись «В.Х.»), П.К. Губер (псевдоним «П. Арзубьев»), М.О. Гершензон (псевдоним «Junior»), С.П. Яремич. При достаточно высокой, хотя не однозначной оценке Ходасевичем и Гершензоном поэзии Игоря Северянина футуризм в целом как литературно эстетическое явление не был принят авторами «Русской молвы», несмотря на ее широкую эстетическую позицию и сочувствие модернизму в целом. Футуризм, по мнению авторов «Русской молвы», не оправдывал ожиданий.
Газета «русская молва», футуризм, игорь северянин, в. ходасевич, п. арзубьев, м. гершензон, с. яремич
Короткий адрес: https://sciup.org/149148608
IDR: 149148608 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-169
Текст научной статьи Газета «Русская молва» и футуризм
The Russkaya Molva daily; fururism; Igor’ Severyanin; V. Khodasevich; P. Arzub’ev; M. Gershenzon; S. Yaremich.
Есть ли прямая связь между политической позицией газеты и ее взглядами на искусство? Как ведет себя в отношении искусства беспартийная газета предреволюционного времени? В пределах одной статьи ответить на эти вопросы, конечно, невозможно. Например, если говорить о литературной политике «Нового времени» в пору А.С. Суворина, то «цинический реализм» В.П. Буренина ее и определяет и совершенно согласуется с циничной позицией самого Суворина, хотя и она не была однозначной (сотрудничество с А.П. Чеховым, А.Г. Достоевской и многое другое).
Пример же «Русской молвы», независимой ежедневной газеты (9 декабря 1912 – 20 августа 1913), представляется в достаточной мере показательным.
Что касается вопросов искусства, то здесь, по-видимому, редакция работала вполне самостоятельно, без вмешательств со стороны или «сверху». Вероятно, следует говорить все же не столько о литературной политике, сколько о «литературной психологии», или литературной позиции газеты. И она может быть соотнесена с общественной. Можно утверждать, что в отношении искусства в целом «Русская молва» проявляет умеренную широту, стремясь всесторонне освещать художественную жизнь по крайней мере двух столиц и Европы.
Вероятно, программной для газеты оставалась помещенная в первом номере статья А. Блока «Искусство и газета», хотя Блок после вынужденного сокращения статьи отходит от предполагавшегося вначале тесного сотрудни- чества с редакцией, как и А. Ремизов и Б. Садовской, изначально намеченный Блоком и Ремизовым для более активной работы в литературном отделе. Можно сказать, что публикации «Русской молвы», связанные с искусством, сохраняют в целом высокий уровень, заданный блоковским предложением развести материалы об искусстве со всеми другими и, по существу, создать профессиональную критику.
Об отношении газеты к акмеизму нам уже приходилось писать [Орлова 2022, 179–196]. Из четырех материалов два были резкими (их авторами были Б. Садовской под псевдонимом «Мимоза» и «Б. Эйхенбаум»), два других представляли собой отчеты о литературных собраниях и потому сохраняли выдержанный, в достаточной мере объективный тон. Здесь мы рассмотрим, как «Русская молва» восприняла футуризм и футуристов.
Футуризму посвящены тоже четыре материала. В декабре 1912 г. под рубрикой «Вести из Москвы» В. Ходасевич за подписью В.Х. рассказывает о прошедшем в Москве в Обществе Свободной Эстетики вечере Игоря Северянина, «первого русского футуриста, основателя целой поэтической школы» [Ходасевич 1912, 7]. Общий тон статьи иронический. Автор характеризует «огромную толпу», пришедшую на вечер:
Здесь были поэты всех толков, от невзыскательных поклонников Ивана Белоусова до прилежных ритмистов из “Мусагета”. Были художники, молодые философы, нарядные дамы, не чуждые решительно ничему. Были почетные граждане скетинг-ринка, молодые утонченни-ки с хризантемами в петлицах. Но вряд ли мы ошибемся, сказав, что поэзия Игоря Северянина до этого дня всем им была одинаково мало известна. Книги свои он печатает в самом ограниченном количестве экземпляров, и достать их почти невозможно [Ходасевич 1912, 7].
Заметим, что автор статьи прав: центральная книга Северянина «Громокипящий кубок» еще не вышла. Кстати, в ней, как принято думать, впервые литературное им поэта предстало без дефиса – но Ходасевич уже пишет «Игорь Северянин» раздельно.
И он отделяет Северянина от общего, становящегося или уже ставшего расхожим представления о поведении и позиции футуристов в целом:
Ждали “ужасов”, но их не было. Были стихи несомненно даровитого, несомненно смелого и подлинного поэта, но те, кто ждал от Игоря Северянина чего-то невероятного, какого-то почти «чуда», – те были разочарованы. Игорь Северянин не свалился с Луны, не вышел из морской пены, не родился из головы Зевса, как Паллада-Афина. У него есть определенная поэтическая родословная. «Футурист» – он тем не менее сам готов признать влияние, оказанное на него уже скончавшимися поэтами: Миррою Лохвицкою и Фофановым [Ходасевич 1912, 7].
К этим двум именам Ходасевич добавляет Белого, Блока, «Брюсова в начале его поприща, а может быть, и безвременно погибшего Виктора Гофмана. Даже самый способ, каким Игорь Северянин читает свои стихи, тоже имеет недавних предшественников: Андрей Белый успел уже его использовать и оставить» [Ходасевич 1912, 7].
Критик, а в первую очередь поэт, Ходасевич точно почувствовал генеалогические корни Северянина, недаром Брюсов поначалу приветствовал стихи Северянина, в особенности его изображение города (что у Северянина шло конечно же от самого Брюсова), а Блок, правда после «Громокипящего кубка», пересмотрел свое небрежное отношение к Северянину. Впрочем, и Блок и Брюсов, как известно, вскоре разочаровались в нем. Похоже, что Ходасевич уже сейчас ощущает некоторую незрелость Северянина как футуриста:
Если футуризм Игоря Северянина – только литературная школа, то надо отдать справедливость: чтобы оправдать свое имя, ей предстоит сделать еще очень многое. Строго говоря, новшества ее коснулись пока одной только этимологии. Игорь Северянин, значительно расширяющий рамки обычного словообразования, никак еще не посягнул даже на синтаксис (Ирония Ходасевича в отношении футуризма здесь, кажется, бесспорна. – Е.О. ). Несколько синтаксических его «вольностей» сделаны очевидно невольно, так как являются просто-напросто варваризмами и провинциализмами, каковыми страдает и самое произношение поэта. Например, он говорит: бэздна, смэ-рть, сэрдце, любов [Ходасевич 1912, 7].
И в конце статьи Ходасевич делает общий вывод: «…по-видимому – футуризму надо еще ждать да ждать философского своего credo» [Ходасевич 1912, 7]. Но критик снова разводит футуризм в целом и Северянина упоминанием о том, что тот «распустил свою школу и отставил от себя футуристическую академию. Как уже сообщалось в нашей газете, он издает книгу своих стихов в ”Грифе”, с предисловием Федора Сологуба, – и нам остается приветствовать в лице его не пророка, не основателя новой школы, а просто талантливого и во многом самостоятельного поэта» [Ходасевич 1912, 7]. – Так закольцовывает Ходасевич свою статью, отдавая должное Северянину-поэту и анонсируя скорый выход «Громокипящего кубка» (но названия книги не приводит).
Этот репортаж был первым откликом Ходасевича о Северянине. В дальнейшем он выступал на северянинских «поэзовечерах», неоднократно высказывался о нем в печати.
В 1912 г. Ходасевич пишет, что критика пока молчит о поэзии Северянина. Это не совсем так. В 1916 г. Северянин уже издает книгу критических отзывов о себе, и в помещенной там статье С. Бобров приводит многочисленные печатные отклики на брошюры Северянина начиная с 1910 г. [Бобров 1916, 27–41]. Напомним, что книжка «Электрические стихи» (1911) в исчислении самого Северянина значилась как «брошюра тридцатая». Почти каждую свою такую брошюру, содержавшую иногда по 8–12 стихотворений, автор отсылал в редакции газет и журналов в расчете на рецензирование. Кстати заметим, что и выпуск книги статей, конечно, тоже был рассчитанным рекламным ходом.
Проанонсировав «Громокипящий кубок» за три месяца до выхода, «Русская молва» затем 28 апреля 1913 г. откликается на книгу заметкой М.О. Гершензона, писавшего под псевдонимом «Junior» (хотя А.В. Тыркова призывала его раскрыть свой псевдоним, как она раскрыла в «Русской молве» и свой – «А. Вергежский»). Есть смысл привести заметку Гершензона полностью.
Художники и критика
Игорь Северянин, конечно, истинный поэт; такой певучести, такой классической простоты и сжатости слов и стиха давно не было в нашей поэзии, не было и такой свежести, нелитературности. Как скажется в дальнейшем его «очаровательный талант» – этого он сам не знает, конечно. Но взгляните: он уже определил свое амплуа и провозглашает его во всеуслышанье: я – поэт экстаза, каприза, свободы и солнца:
Я с первобытным неразлучен, Будь это жизнь ли, смерть ли будь. Мне лед рассудочный докучен, – Я солнце, солнце спрятал в грудь!
В моей душе такая россыпь Сиянья, жизни и тепла, Что для меня несносна поступь Бездушных мыслей, как зола.
И в эпиграфе к книге, и в ее заглавии, и в предисловии Ф. Сологуба – то же определение: я – молодость, я – непосредственность, я – солнечный, дерзкий, жизнью пьяный!
Не «дерзость» этих заявлений я ставлю в упрек Игорю Северянину; но мне жаль, что он так ясно сознает себя, мне жаль, что его заявления так рассудочны. В этом есть что-то старческое, и во всяком случае это опасно для поэта и вредно для его читателей. Он сразу дает свою формулу, – и в рамке этой формулы его будут воспринимать, и сам он неизбежно будет склонен играть свою формулированную роль, как это отчасти делают до сих пор и Бальмонт, и Брюсов. Зачем он связывает себя и объясняет себя читателям? Это, разумеется, органично, – ведь и Пушкин начинал, как солнечный, однако роли себе не приписывал и ее не объявлял; но, может быть, тут есть и вина русской традиции, исконной привычки нашей критики поспешно «формулировать» сущность каждого из наших писателей.
Junior [Критика о творчестве Игоря Северянина 1916, 118–119].
Третий материал, посвященный футуризму, – это «Литературные заметки», подписанные буквами «П.А.». Мы полагаем, что это тот же автор, который подписывался «П. Арзубьев» или «П.Ф. Арзубьев» (настоящее имя – Петр Константинович Губер, 1886–1940). Его выступления в газете «Русская молва», кажется, еще нигде не были учтены. Имя Арзубьева достаточно часто встречается в газете: он автор статьи о поэзии А. Голенищева-Кутузова за подписью «П.А.», материалов под рубрикой «Маленький фельетон» (например, остроумная «Сцена из Фауста», опубликованная 13 августа 1913 г., № 240. С. 2). Его статья в приветствие В.Г. Короленко открывала полосу, посвященную 60-летию писателя, и единственная шла за подписью «П. Арзубьев»: остальные материалы не были подписаны (17 июля 1913 г., № 210. С. 4).
«Литературные заметки» Арзубьев посвящает русским футуристам.
Не так давно московские футуристы, те самые, что, согласно собственной аттестации, пишут стихи на языке «заумном и вселенском», изъявили намерение «выбросить с парохода современности»
(sic!) Пушкина, Достоевского и Толстого. Теперь они, по-видимому, сочли нужным пересмотреть свое отношение к корифеям русской литературы и открыли в эти последних кое-какие достоинства. Особенно посчастливилось Тургеневу. В книжке «Взропщем», взлетевшей в Москве, помещена статейка г. Крученых, называющаяся «Выпыт любви Тургенева». Заканчивается этот «выпыт» следующими многознаменательными словами: «как кудесник Тургенев безмолвствовал и известен лишь как прозорливец. Он предвидел наше появление».
Бедный Иван Сергеевич! Он предвидел Бурлюков и Крученых. Недаром, стало быть, был он последние годы жизни таким пессимистом! [Арзубьев 1913, 3].
Трудно сказать, намеренно ли автор статьи допускает неточность в цитате (вместо футуристического «бросить» у критика «выбросить»), – суть от этого не меняется. А к слову «взлетевшей» – о книжке Крученых – дает такую сноску: «Прим.<еча-ние>: футуристские книги не выходят в свет, но взлетают. Такова, по крайней мере, терминология, усвоенная книгоиздательством “Egos”» [Арзубьев 1913, 3].
Это нуждается в комментарии. О книге «Взропщем», выпущенной в Москве издательством «Egos», нам ничего не известно. Чаще современные исследователи ссылаются на книгу под названием «Возропщем». Она имела такие выходные данные: «СПб: ЕУЫ, Типография т-ва “Свет”», 1913. Тираж 1000 экз.». Автор – Алексей Елисеевич Крученых. Но П.А. указывает местом издания книги «Взропщем» Москву. Ошибся ли критик или книга вышла дважды и название несколько разнилось? В наше время, например, П.Е. Родькин цитирует книгу Крученых «Взропщем», но местом издания указывает Петербург (издательство не названо, указана типография «Свет» [Родькин 2012, 300–303]). Что касается названия издательства – «ЕУЫ», – то это слово было, как известно, изобретено самим Крученых для замены слова «лилия». Он писал:
Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия, захватанное и «изнасилованное». Поэтому я называю лилию еуы – первоначальная чистота восстановлена [Крученых, Кульбин 1913, 2].
Издание, которое мы здесь процитировали, представляло собой, собственно говоря, не книгу, а листовку из трех страниц, отпечатанную в той же петербургской типографии товарищества «Свет».
Как бы то ни было, журналист «Русской молвы» иронизирует над футуристом, узревшим наконец ценность хотя бы Тургенева. Но обрывает себя:
Впрочем, стоит ли насмехаться над людьми, которые и без того прошли сквозь строй издевательств и насмешек? Не лучше ли поговорить о них серьезно [Арзубьев 1913, 3].
Дальше Арзубьев констатирует:
За истекший год футуристская поэзия успела выявиться вполне. Увы, ничего кроме юродства и кривляния она не дала миру. Но кто знает, не было ли в этом безграмотном бунте против установленных литературных ценностей кое-каких здоровых задатков.
Действительно, после кризиса последних лет наша литература зашла в тупик. Старый натуралистический реализм низвержен во прах, а так называемые «новые течения» начали усыхать и мелеть, не найдя подходящего русла. Создавшееся положение никоим образом нельзя признать желательным и нормальным.
Свободная игра поэтической фантазии, разрешающаяся в юморе, – вот что необходимо современной литературе [Арзубьев 1913, 3].
Рецепт Арзубьева кажется несколько неожиданным: он советует футуристам обратиться к художественному опыту Гофмана и цитирует Вл. Соловьева, который перевел «Золотой горшок» и написал к нему предисловие. Арзубьев цитирует Соловьева: «…двойная свобода и двойная игра поэтического сознания с реальным и фантастическим миром выражается в том своеобразном юморе, которым проникнуты произведения Гофмана, и в особенности его сказки» [Арзубьев, 1913, 3].
Это именно то, чего, по Арзубьеву, недостает футуристам, пока не оправдывающим надежд.
Творчество в стиле Гофмана или, восходя глубже в древность, в стиле Аристофана, одно может открыть нам источник живой воды. Само собою разумеется, я говорю здесь не о рабском, книжном подражании, но об обращении к однородным поэтическим стихиям.
Неясный намек на указанные мною возможности чувствовался в движении футуристов. Но у них не хватило знания, умения и таланта, чтобы создать что-нибудь совершенное и законченное в этом роде [Арзубьев 1913, 3].
Таково итоговое суждение критика, сожалеющего в конце статьи о том, что Соловьев не довел перевода до конца и что Гофман еще остается труднодоступным для российского читателя.
Итак, в pendant к материалам Гершензона и Ходасевича Арзубьев высказывается о футуризме как о движении, не оправдавшем надежд литературы, нуждающейся в свежей струе.
И, наконец, четвертое выступление газеты – это статья «На родине футуризма». Она была написана в Милане и посвящена уже не русскому, а итальянскому футуризму. Автором ее был С. Яремич (Степан Петрович Яремич, 1869 – 1939 ), художник и искусствовед, друживший с М.А. Врубелем и написавший в 1911 г. книгу о нем.
Рисуя для русского читателя Италию, Яремич строит свой очерк на контрасте. В мирных картинах жизни Милана, в городских пейзажах, по его мысли, ничто не соотносится с эстетикой футуризма.
Недостаток итальянского футуризма заключается в его крайней случайности и неубедительности. Ни одна мысль не связана с жизнью, не затрагивает ее ни с какого конца. Одного усилия казаться странным и необыкновенным – мало. В этом и заключается слабость футуристов, и они ее отлично понимают, так как, наговорив с три короба всякого вздора, они сразу же объявили, что с радостью готовы взять на себя название сумасшедших. Но едва ли они дождутся этого почетного наименования. <…>
Но сами-то футуристы отлично понимают себе цену. Они претендуют далеко не на все будущее, а только на крошечную его часть – всего только на десять лет, не больше. «Старшие из нас находятся в возрасте 30 лет. Перед нами, следовательно, десять лет, чтобы выполнить нашу задачу. Когда нам стукнет за сорок, пусть более молодые и более мужественные придут нам на смену и сметут нас в корзину, как ни к чему не пригодную бумагу». Это было сказано в первом манифесте футуристов, пять лет тому назад. Еще, значит, остается действовать пять лет. И хотя в жизни и не заметно ни малейших следов влияния футуризма, но все же кое-что сделано. Имя Маринетти изредка встречается под рекламами мыла и питательных продуктов, а это уже некоторое завоевание. Пройдет еще пять лет, и футурист сделается человеком прошлого и станет пописывать статейки на банальные темы в какой-нибудь большой газете. Что ж, это – конец не плохой. <…>
– Ну, а вдруг, – скажет читатель, испуганный слухами о новом нашествии варваров, – вдруг действительно осуществится желание футуризма – уничтожат дивные произведения искусства, сожгут библиотеки, великолепные памятники превратят в прах, а на их месте устроят гаражи для автомобилей, пивные, кафе, паноптикумы с искусственными головами, руками, ногами и прочими частями «бессмертного» человеческого тела, и что за ужас и удушье наступят тогда на земле – страшно подумать!
Ну, что же, все возможно, возможно, в конце концов, и это. Возможно, но нисколько не страшно. <…>
Кто может дать представление об истинных размерах продуктивности и характере произведений автора древности, создавшего Бельведерский торс? Общая сумма его труда является загадкой, как и многое в творчестве античного мира. Но достаточно было найти один этот торс, как он тотчас же дал толчок неимоверной энергии Микель Анджело, открыв ему беспредельные горизонты. Четыре столетия господствует этот загадочный обломок мрамора, и его влияние не перестает сказываться еще и в наше время в лучших мастерах эпохи. И можно сказать с уверенностью, что этот торс еще не сказал своего последнего слова. Бояться нечего. <…> Один какой-нибудь фрагмент может служить источником вдохновения для целых поколений художников. Так что для искусства не страшны не только футуристы, но и самые подлинные варвары. Оно неистребимо.
С. Яремич.
Милан [Яремич 1913, 2–3].
Яремич вовсе не был сторонником жизнеподобия в искусстве. Его собственные живописные работы можно было бы определить как умеренно модернистские. В своей книге о Врубеле Яремич противопоставляет Врубеля не только декадентству, но и символизму: «…вместе с увлечением светскостью и дендизмом, Врубель всегда сохранял всю ясность и простоту жизненной мысли. В том и состоит одно из ярких отличий Врубеля от декадентов, даже и талантливых, что он никогда не впадал в истерику манерности» [Яре-мич 2011, 18]. Так что репутация Врубеля как декадента, созданная ему при жизни, по мнению Яремича, абсолютно неверна.
Что же касается итальянского футуризма, то статья Яремича прозвучала в унисон с тремя предшествовавшими статьями Ходасевича, Арзубьева и Гершензона. В глазах авторов «Русской молвы» футуризм не оправдывал ожиданий.