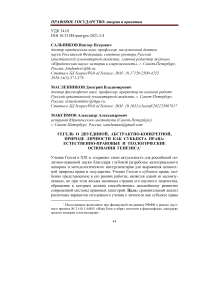Гегель о двуединой, абстрактно-конкретной, природе личности как субъекта права: естественно-правовые и теологические основания генезиса
Автор: Сальников Виктор Петрович, Масленников Дмитрий Владимирович, Максимов Александр Александрович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Общетеоретические и исторические проблемы формирования правового государства
Статья в выпуске: 3 (65), 2021 года.
Бесплатный доступ
Учение Гегеля в XXI в. сохраняет свою актуальность для российской политико-правовой науки благодаря глубокой разработке категориального аппарата и методологического инструментария для выражения ценностной природы права и государства. Учение Гегеля о субъекте права, особенно представленное в его ранних работах, является одной из малоизученных, но при этом весьма значимых страниц его научного творчества, обращение к которым должно способствовать дальнейшему развитию современной системы правовых категорий. Цель: сравнительный анализ различных вариантов гегелевского учения о личности как субъекте права и его генезисе с учетом особенностей естественно-правового и теологического подходов. Методы: логический, историко-генетический, историко-сравнительный, системный метод познания, а также методология теоретико-правовой компаративистики. Результаты: в поздней философской системе Гегель развивает учение о двуединой природе личности как субъекта права: в качестве конкретного субъекта личность опосредствует свое отношение с другими субъектами через единичную предметную вещь (качественная характеристика субъекта), как абстрактный субъект личность строит свои отношения с ними на основе признания в качестве равных субъектов свободы (количественная характеристика субъекта). Формой разрешения данного противоречия выступает мораль. В разные периоды своего научного творчества Гегель рассматривал генезис личности как субъекта права с естественно-правовой и с теологической стороны, включая идею Бога, выявляя при этом новые существенные аспекты понятия субъекта права, связанные с историческим развитием государства и становлением правового государства.
Право, государство, субъект, личность, гегель, теология, идея бога, философия права
Короткий адрес: https://sciup.org/142234106
IDR: 142234106 | УДК: 34.01
Текст научной статьи Гегель о двуединой, абстрактно-конкретной, природе личности как субъекта права: естественно-правовые и теологические основания генезиса
Политико-правовой блок учения Гегеля был включен в его философскую систему, которая заключала в себе и одновременно воплощала собой детально проработанную спекулятивно-логическую методологию. Однако только в единстве с ранними философско-правовыми работами, представленными трактатами «Конституция Германии», «О научных способах исследования естественного права, его месте в практической философии и его отношении к науке о позитивном праве», «Система нравственности», «Йенская реальная философия» и др., содержание гегелевской философии права может быть и по достоинству оценено, и адекватно понято [1, c. 164–177]. И лишь в единстве с ранними работами зрелое гегелевское учение о праве и государстве по-настоящему составляет целостную правовую теорию [2; 3].
Зрелая система Гегеля, как известно, состоит из трех структурных элементов: логики, учения о природе и учения о духе. Последний включает в себя учение о субъективном духе, учение об объективном духе, учение об абсолютном духе. Логика является изложением диалектического гегелевского метода и одновременно учением о сущностных законах бытия, и в этом смысле слова – абсолютным методом [4, c. 317– 322]. В понимании самого ученого она является наукой о всеобщем диалектическом единстве мышления и бытия [5, c. 178–187]. Филосо- фия природы рассматривает объективный мир как совокупность этапов становления духа. Таким образом, учение о природе переходит в учение о субъективном духе, поскольку его Гегель понимал как «конечный дух» [6, c. 30, 31], «природный дух» [6, c. 40], или дух в его непосредственной природности.
В соответствии с методологическими установками Гегеля научное мышление, которое схватывает всякое содержание в первую очередь как процесс, как развитие, не может предпосылать понятие высшего (в данном случае – понятие «духа») какому-либо иному, менее развитому содержанию. В противном случае оно бы не было результатом развития. Значит, по логике Гегеля, развитие духа должно начинаться с чего-то противоположного его высшей форме, а таковым может быть только дух, взятый в его природной форме. Для Гегеля это единичный ощущающий и чувствующий субъект, еще не возвысившийся до уровня субъекта социального действия и не объективировавшийся в правовых отношениях. Разъясняя эту свою позицию, ученый писал: «Правда, его реальность в начале также должна уже быть абстрактной – только благодаря этому соответствует она идеальности духа, – но она по необходимости еще не опосредствованная, еще не положенная, следовательно, только сущая, внешняя духу, данная через природу. Мы должны, поэтому, начинать с духа, который еще пленен природой, еще связан со своей телесностью, еще не есть дух, обладающий у-себя бытием, – мы должны начинать с еще не свободного духа. Процесс развития природного духа состоит в том, что природный дух овладевает природой, починяет ее себе и становится свободным от ее господства. Он становится "свободным духом"» [6, c. 40].
Отметим, что в учении о развитии природного духа к свободному духу Гегель, по сути, рассматривает тот же процесс овладения человеком природой, что и в своем раннем трактате «Йенская реальная философия» (1805–1806). С той лишь разницей, что в ранней рукописи он рассматривал этот процесс с его объективной стороны, а именно как процесс трудового воздействия человека на природу, как производительный труд, как процесс создания материальных условий своего существования и как процесс освобождения человека от своей материальной зависимости от природы. Логическим результатом анализа этого процесса был переход к анализу института семьи как единицы не только моральных отношений (отношений любви, как о них писал Гегель), но и как элементарной единицы хозяйственных отношений в обществе, особенно в обществе, основанном на натуральном хозяйстве [7].
Таким образом, генетическими элементами отношений права, вызревающих в системе «естественного состояния», для Гегеля являются, во-первых, сам субъект права, здесь – это конкретный человек; во-вторых, труд, который направлен только на удовлетворение потребности членов семьи, то есть соответствует тому, что мы называем натуральным хозяйством, но потенциально может развиться при условии всеобщего разделения труда до уровня товарного производства («он [индивид] сам сделал [этот свой продукт] бытием для [удовлетворения] потребности других, тогда как в семейном владении он, напротив, сохранял его для себя» [6, c. 325]); в-третьих, внутреннее единство субъектов, положенное в форме любви, составляющей сущность и действительную скрепу семейных отношений. Результатом становления единства всех трех элементов выступает социальное пространство взаимного признания индивидами друг друга в качестве свободных, независимых и равных субъектов взаимных отношений. Эти отношения, закрепляясь формально и легитимируясь властью государства, утверждаются как отношения права.
Признание в трактате «Йенская реальная философия» выступает, таким образом, как особая форма бытия человека, называемая Гегелем «бытие в признанности» (Annerkantsein). В самом общем виде Гегель определяет право именно через категорию признания («Это признание есть право» [8, c. 316]), а становление права определяет через «борьбу за признание». Проблематика борьбы за признание получила развернутое изложение также в «Феноменологии духа» и является предметом, к которому нередко обращаются гегелеведы, занимающиеся историей правовых учений [9, c. 30–34].
Рассматривая вопрос о генезисе субъекта права в своих поздних произведениях, в «Энциклопедии философских наук» и «Философии духа», Гегель отходит от логики ранних рукописей и исследует этот процесс преимущественно с субъективной стороны. Здесь генезис субъекта права раскрывается, прежде всего, как процесс овладения человеком качествами своей души, ощущениями и чувствами, возвышения над своей чувствительностью, подчинения ее своему сознанию и воле и через это – как процесс становления человека в качестве разумного, владеющего собой и потому свободного субъекта гражданских, правовых и политических отношений.
Именно об этом говорит Гегель в параграфе, трактующем право как явление духовной сущности: «Почвой права является вообще духовное, и его ближайшим местом и исходной точкой – воля, которая свободна; так что свобода составляет ее субстанцию и определение и система права есть царство осуществленной свободы, мир духа, порожденный им самим как некая вторая природа» [10, c. 67]. Здесь результатом является «личность» (Person) как специфическая социальная характеристика человека. Этапы генезиса такой «личности» зафиксированы, соответственно, в Антропологии, Феноменологии и Психологии в «Энциклопедии философских наук» [11, c. 184–192].
В таком качестве личность оказывается, прежде всего, субъектом той сферы политико-правовых отношений, которые Гегель называет абстрактным правом. Нужно отметить, что личность, как она выступает в трактовке Гегеля, – это субъект социальный. Качества человека как личности, как субъекта правовых отношений Гегель не связывает ни с его телесными особенностями, ни с особенностями антропологическими (такими как способность к ощущению, чувству, созерцанию, восприятию и т. п.). В то же время он не сводит личность и к чистой абстракции самосознания, к осознанию себя человеком как таковым, к абстракции своей свободной сущности.
В действительности, понятие личности у Гегеля является диалектическим единством двух противоположностей: с одной стороны, всей полноты человеческих телесных, антропологических и психологических качеств, описанных в предшествующем материале «Энциклопедии философских наук», а с другой стороны, указанной абстракции свободной сущности. Об этом говорится в следующем фрагменте, где Гегель определяет это исходное для своего учения о праве понятие: «В личности заключено, что я в качестве этого представляю собой полностью определенное во всех аспектах (во внутреннем произволе, влечении, вожделении, равно как и по непосредственному внешнему наличному бытию) и конечное, однако совершенно чистое соотношение с собой, и тем самым знаю себя в конечности бесконечным, всеобщим и свободным» [10, c. 97].
Субъект права, таким образом, по Гегелю, двуедин. Он одновременно и единичен и всеобщ, и абстрактен и конкретен. Но если его единичная и конкретная природа может быть дана налично и дана эмпирически, то с всеобщей и абстрактной природой дело обстоит прямо противоположным образом. Дана она может быть только в мышлении, а значит, налично существовать может только в социальных отношениях между теми, кто обладает способностью мышления, а именно во взаимодействии человека с другими людьми, в акте коммуникации и в многочисленных актах перекрещивающихся коммуникаций, по Гегелю, как раз и образующих ткань правоотношений, если целью этих коммуникаций является признание, а результатом – «бытие в признанности».
Думаем, мы будем ближе к точной интерпретации содержания понятия личности как субъекта права и как исходной клеточки развития логики права в «Философии права», если учтем аналогичную трактовку этого материала в «Йенской реальной философии». Здесь Гегель также говорит о бытии личности, но понятие бытия уже на этапе этого раннего произведения имело для него строгое категориальное значение. Говоря не о бытии вообще, не о бытии как таковом, а о бытии какого-либо особенного предмета, нужно было указать и особенность наличного бытия этого предмета или явления, на способ его бытия.
Так, говоря о бытии личности как субъекта права, Гегель указывает на акт призвания как способ ее бытия. Поскольку личность существует во взаимодействии со многими личностями и эта множественность доказывается Гегелем (вслед за Фихте, считавшим в своей работе «Основа естественного права согласно принципам наукоучения» это доказательство одной из главных задач теории права [12, c. 59–78]), постольку речь идет не о единичном акте «признания», а о «признанно-сти» как некоторой длительности, как результате процесса. Таким образом, способ бытия личности в «Йенской реальной философии» определяется как «бытие в признанности» (Annerkantsein). И это содержание, скорее, даже не предваряет, а конкретизирует то, о чем идет речь в «Философии права». Поэтому стоит признать, что тексту поздней «Философии права» Гегеля недостает глубокого и содержательного понятия «бытия в признанности», оставшегося в ранней рукописи.
Поскольку акт признания, как подчеркивает Гегель, всегда опосредован конечной вещью [10, c. 101], а договор носит спорадический, связанный только с этим единичным актом характер, то он имеет чисто количественную природу. Вещь в отношениях акта признания составляет, напротив, материальный, то есть качественный, момент этого отношения.
В сфере чистой логики Гегель показывает, как чистое качество переходит в количество. Здесь мы также можем наблюдать переход от определенного лица, связанного с определенной же вещью, то есть от некоторого качества, к более существенному типу отношений, заключающихся в отношении к другому лицу, где первоначальное отношение к вещи – это лишь опосредующий способ перехода к социальным отношениям. Там, где проявилась социальная природа вещных отношений, последние уже в соответствии с требованиями методологии сферы сущности показывают свою «несущественность», показывают, что они лишь форма явления, знак социально-правовых отношений (вещные отношения здесь, как выражается Гегель, «zu Grunde gehen», что по- немецки одновременно означает и «погибнуть», и «уйти в основание», то есть стать основанием чего-либо. Гегель охотно использует эту труднопереводимую игру слов [13, c. 280]).
В аспекте методологии анализа правовых явлений это проявившее себя как более существенное, чем вещное содержание межличностной коммуникации, социальная природа ее отношения имеет, по Гегелю, чисто количественную характеристику, основанную на количественном же определении, а именно на определении равенства и неравенства: «В личности разные лица равны между собой, если говорить о разных лицах там, где еще нет таких различий. Но это бессодержательное, пустое, тавтологичное предложение, ибо лицо в качестве абстрактного и есть еще не обособленное и не положенное в определенном различии. Равенство есть абстрактное рассудочное тождество, которое прежде всего имеет в виду рефлектирующее мышление, а тем самым и духовная посредственность вообще, когда оно встречается с отношением единства к различию. Здесь равенство было бы лишь равенством абстрактных лиц как таковых, вне которых именно поэтому остается все, что относится к владению, этой почве неравенства» [10, c. 107].
Здесь обнаруживает себя и «действует» двойственная, абстрактно-конкретная природа личности как субъекта права, о которой мы сказали, давая свой анализ и интерпретацию гегелевскому определению личности (Person). Как конкретный человек личность овладевает конкретной вещью и предлагает ее для обмена конкретному же человеку. И здесь имеют место отношения, связанные с качествами вещей и самого человека. Как абстрактная личность он выступает субъектом правовых отношений. И здесь уже имеют место чисто количественные характеристики, о чем говорилось в предыдущем абзаце.
По сути, в «Философии права» Гегель переносит на правовую почву ту диалектику абстрактного и конкретного, которую он двадцать лет назад в «Йенской реальной философии» рассматривал на материале политической экономии [14, c. 436–442]. В «Философии права» речь идет о различии абстрактного и конкретного моментов в определении личности как субъекта права. В «Йенской реальной философии» она шла о различии абстрактного и конкретного труда человека, создающего вещи как объект правовых отношений. Если в «Йенской реальной философии» значительное внимание уделяется проблематике абстрактного и конкретного труда как политико-экономической основе правовой теории (а также вопросам механизации труда как формы утверждения его «абстрактности» в живой реальности общественной жизни), то в поздних вариантах философии пра- ва это содержание упоминается только мельком: «Труд, делающийся вместе с тем более абстрактным, влечет за собой, с одной стороны, вследствие своего единообразия легкость работы и увеличение производства, с другой – ограничение каким-нибудь одним умением и тем самым безусловную зависимость от общественной связи. Само умение становится вследствие этого механическим и делает возможной замену человеческого труда машиной» [6, c. 343]. Еще через четверть века К. Маркс, опираясь уже на зрелые варианты учения Гегеля о праве, восстановит политико-экономическую проблематику абстрактного и конкретного труда, чтобы отсюда на новом витке «отрицания отрицания» снова перейти к политико-правовой проблематике.
Заметим также, что в приведенном фрагменте, посвященном правовому «бытию в признанности», Гегель говорит о том, что «все, что относится к владению», осталось «вне» этих «абстрактных лиц», именно потому мы имеем дело здесь уже с абстрактными лицами, а именно с такими, от которых абстрагированы все качества, кроме чисто количественного отношения равенства с другими, которое будет положено в основу юридического равенства.
Развитие гегелевской философии права и развитие трактовки вопросов генезиса субъекта права [15; 16, с. 97–142; 17, с. 19–21; 18, с. 62– 69; 19, с. 296–298] определялось общей логикой перехода от одного варианта философской системы к другому. Для ранней системы, воплощенной в «Системе нравственности» и в «Йенской реальной философий», это был объективный процесс материального производства, освобождающего человека от природной зависимости. Начальным субъектом такого производства в форме естественного (натурального, как принято выражаться) хозяйства была семья – первый субъект свободы, скрепленный узами морали. Личность как субъект права формировалась путем абстрагирования от субъекта морали своих качеств потенциального объекта «признания». В основных чертах эта логика дедукции субъекта права раннего Гегеля была близка соответствующей логике Аристотеля [20; 21].
Логика зрелой философской системы, системы «Энциклопедии философских наук» и «Философии права», вела от генезиса качеств свободной личности («свободного духа») в недрах природного человека, человека души, к определениям человека, утверждающегося в процессе взаимопризнания с Другим в качестве равного, свободного субъекта. Это субъект той сферы, которую Гегель называл «абстрактным правом» и которую еще следует развить до уровня сферы семьи, где человек опреде- ляется уже как субъект моральных отношений. Далее Гегель развивает определения человека до уровня субъекта отношений гражданского общества и государства, где он становится субъектом всемирной истории.
На склоне лет Гегель искал в синтезе философии и богословия новую форму своей системы. Вариант ее мы можем видеть в «Лекциях по философии религии» и в «Лекциях о доказательстве бытия бога» [22, c. 73–85]. То, что в «Философии права» было результатом развития содержания, здесь, наоборот, выступило источником генезиса права. А именно: единый процесс всемирной истории как процесс развития государства, развития общества и развития человека. К вопросу о смысле этой истории Гегель подходил с богословских позиций, концентрируя его в Священной Истории Богочеловека, отсылающей нас к образу вечности и вечных ценностей [23, c. 35–36]. Богочеловек здесь выступает образом совершенной личности, самим своим существованием обеспечивающей возможность права, правовых отношений и правового государства [24, c. 223]. Этот, третий, вариант логики построения философии права у Гегеля только намечен. Ученый не успел придать ему развернутую форму, что, однако, не снижает общей ценности того импульса, который был в целом дан теологией последующей философско-правовой мысли.
Список литературы Гегель о двуединой, абстрактно-конкретной, природе личности как субъекта права: естественно-правовые и теологические основания генезиса
- Философско-правовое содержание ранних работ Г.В.Ф. Гегеля / Сальников В.П. [и др.] // Юридическая наука: история и современность. 2017. № 1. С. 164-177.
- Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Философия И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля: рефлексия начал справедливости и права // Правовое поле современной экономики. 2016. № 5. С. 155-164.
- Исмагилов И.Р., Клименко О.А., Мирзоев А.К. Гегель о суверенитете как конституционной ценности // Методология современного конституционализма: конституционализация позитивного права; конституционная аксиология пропорциональности : матер. XIV Междунар. науч.-практ. конф. по конституц. праву, Санкт-Петербург, 20-22 мая 2016 г. / под общ. ред. А.А. Ливеровского, В.П. Сальникова. СПб. : Фонд «Университет», 2017. С. 138-144.
- Pippin R.B. Hegels realm of shadows: logic as metaphysics in the Science of logic. Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2018. 352 p.
- Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. К вопросу о значении логической формы философии для понимания природы абсолютного в праве // Мир политики и социологии. 2018. № 2. С. 178-187.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук : в 3 т. Т. 3. Философия духа. М. : Мысль, 1977. 470 с.
- Сальников В.П., Масленников Д.В., Исмагилов И.Р. Развитие теоретико-методологических оснований политико-правовой науки в «Йенской реальной философии» Г.В.Ф. Гегеля // Мир политики и социологии. 2016. № 12. С. 181-188.
- Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет : в 2 т. М. : Мысль, 1972. Т. 1. 630 с.
- Schaber P. Recht als Sittlichkeit. Eine Untersuchung zu den Grundbegriffen der Hegelschen Rechtsphilosopie. Würzburg : Königshausen und Neumann, 1989. 155 s.
- Гегель Г.В.Ф. Философия права. М. : Мысль, 1990. 524 с.
- Лукашин Е.В., Масленников Д.В. Антропологическое единство человека как генетическая предпосылка рефлексивной интуиции права // Мир политики и социологии. 2016. № 5. С. 184-192.
- Фихте И.Г. Основа естественного права согласно принципам наукоучения. М. : Канон+, 2014. 391 с.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М. : Мысль, 1974. 451 с.
- Лёвит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. СПб. : Фонд «Университет» : Владимир Даль, 2002. 672 с.
- Захарцев С.И., Сальников В.П. Перечитывая Гегеля. Размышления к 200-летию «Философии права» // Теория государства и права. 2021. № 2 (22). С. 67-88.
- Идея свободы. Право. Мораль: классическая и постклассическая философия права : моногр. / И.А. Ананских [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук С.И. Захарцева. М. : Юрлитинформ, 2020. 288 с.
- Идея справедливости в традициях постклассической философии права : науч. изд. / Р.Ф. Исмагилов [и др.] ; под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб. : Фонд «Университет», 2012. 176 с.
- Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели. (Историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи справедливости в ХХ-ХХ1 вв.) : моногр. СПб. : Фонд «Университет», 2017. 324 с.
- Фролова Е.А. Рациональные основания права: классика и современность : моногр. М. : Проспект, 2020. 576 с.
- Верховодов Е.В., Сальников В.П., Романовская В.Б. «Естественное право» и «добродетель» в трудах Аристотеля // Юридическая наука: история и современность. 2015. № 8. С. 201-208.
- Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Платон, Аристотель, Фома Аквинский и идея справедливости в естественно-правовой традиции // Мир политики и социологии. 2016. № 9. С. 19-26.
- Масленников Д.В. Единство мышления и бытия в гегелевских «Лекциях о доказательстве Бытия Божия» // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2020. Т. 21, № 2. С. 73-85.
- Богатырёв Д.К. Религии и идеологии : моногр. СПб. : РХГА, 2019. 190 с.
- Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид - Гегель - Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права : моногр. М. : Юрлитинформ, 2019. 376 с. DOI 10.17513/np.467.