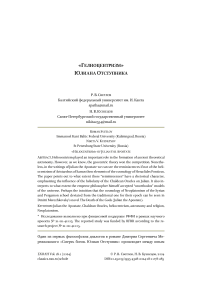"Гелиоцентризм" Юлиана Отступника
Автор: Светлов Р.В., Кузнецов Н.В.
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.18, 2024 года.
Бесплатный доступ
Гелиоцентризм играл важную роль в становлении античной теоретической астрономии. Однако, как известно, геоцентрическая теория выиграла в конкурентной борьбе. Тем не менее мы можем увидеть в сочинениях Юлиана Отступника отзвуки если не гелиоцентризма Аристарха Самосского, то элементов космологии Гераклида Понтийского. Мы постараемся выяснить, насколько эти «отзвуки» имеют риторический характер, подчеркивая влияние гелиолатрии «Халдейских оракулов» на Юлиана. Мы таже постараемся понять, насколько сам император-философ принимал «неортодоксальные» модели мироздания. Возможно, интуиции о том, что космология неоплатонизма сирийской и пергамской школы отклонялась от традиционной для их эпохи, можно увидеть в романе Дм. Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник».
Юлиан отступник, халдейские оракулы, гелиоцентризм, астрономия и религия, неоплатонизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147244192
IDR: 147244192 | DOI: 10.25205/1995-4328-2024-18-1-278-285
Текст научной статьи "Гелиоцентризм" Юлиана Отступника
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-41005. The reported study was funded by RFBR according to the research project № 21-011-41005.
Один из первых философских диалогов в романе Дмитрия Сергеевича Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник» происходит между юным
Юлианом и Ямвлихом Халкидским («Ямвликом» в транслитерации Мережковского). Невозможный с исторической точки зрения, он, тем не менее, любопытен для понимания философского идейного горизонта, в котором писался роман, трактовки неоплатонической мудрости русскими интеллектуалами в конце XIX столетия. И может быть хорошим зачином к нашему материалу.
«Чему уподоблю мир, все эти солнца и звезды? Сети уподоблю их, закинутой в море. Бог объемлет вселенную, как вода объемлет сеть; сеть движется, но не может остановить воду; мир хочет и не может уловить Бога. Сеть движется, но Бог спокоен, как вода, в которую закинута сеть. Если бы мир не двигался, Бог не создавал бы ничего, не вышел бы из покоя, ибо зачем и куда ему стремиться? Там, в царстве вечных Матерей, в лоне Мировой Души, таятся семена, Идеи-Формы всего, что есть, и было, и будет: таится Логос-зародыш и кузнечика, и былинки, и олимпийского бога...» (Мережковский 1990, 68)
Мережковский вкладывает в уста «Ямвлика» слова почти адвайта-ведан-тистской концепции, где, правда, мир становится не игрой абсолюта, но взыскующей его природой, впрочем, не способной существовать вне этой нужды, вне отношения к тому, что он никак познать не в состоянии. Это, безусловно, отличается от известного нам учения Ямвлиха, где мир, напротив, выступает проявлением разнообразной божественной деятельности. Но нам важен другой момент – тезис о бесконечном покое бога подчеркивается Мережковским через метафору пространственной бесконечности Начала. «Все эти солнца и звезды», подобные сети – явный образ величия пространства и множественности миров. Мог ли он быть каким-то образом свойственен неоплатоникам в лице Ямвлиха и Юлиана Апостата?
Как представляется «имперский» вариант платонизма, господствовавший в Сирийской и Пергамской школах, ориентированный на единство создателя и его «инкарнаций» (от умопостигаемого Солнца до божественного императора), а также конгруэнтность замысла (эйдетичексого бытия сверхкосмической реальности) и воплощения (внутрикосмического мироздания) должны эту возможность отрицать. Доминирующий «научный» птолемеевский геоцентризм также в те времена уже стал «общим местом» и должен был бы блокировать противоречащие ему представления – по крайней мере именно он решающим образом повлиял на геоцентрическую трактовку библейского «Шестоднева» в раннехристианской мысли.
Тем не менее среди неоплатоников есть фигура, которая дает повод для подозрений, что в действительности их космология была более сложна, подтверждая интуицию Мережковского. Правда, это не Ямвлих Халкидский, а как раз его собеседник из вымышленного диалога – Юлиан Отступник.
«Гимн к царю Солнцу» императора-философа поражает своей принципиальной и последовательной гелиолатрией, которая может быть сопоставлена с идеями знаменитого восхваления Атона, принадлежащего фараону Эхна-тону. Сходство некоторых идей недавно стало причиной попытки протестировать возможные исторические основания концептуальной близости этих солнцепоклоннических произведений (Lauritzen 2020/21). Но некоторые строки заставляют идти дальше, предполагая наличие у Юлиана скрытого гелиоцентризма. Наиболее показателен следующий фрагмент (Jl. Hel. 135b):
«Ибо планеты ведут вокруг него, как своего царя, хоровод в определенные промежутки времени, вращаясь по отношению к нему, и вращаются по кругу в совершенном согласии, делая определенные остановки и следуя по своей орбите и обратно; те, кто обрел знание в изучении движения сфер, называет все это видимыми движениями; а то, что свет луны прибывает и убывает пропорционально ее расстоянию от Солнца, думаю, ясно всем».
О хороводных танцах планет вокруг Солнца Юлиан говорит в том же гимне и ниже (146с–d), как и об управлении Солнцем движением небесных сфер (146b–с). Не менее интересен в данном контексте и следующий фрагмент:
«От вечности был устроен вокруг Гелиоса видимый космос и от вечности существует свет, которые объемлет космос» (145d).
Неудивительно, что некоторые исследователи видят в этих строках Юлиана влияние гелиоцентрической традиции как минимум в версии Гераклида Понтийского. Иногда полагают, будто данные слова прямо указывают на то, что Юлиан полагал Землю одной из планет, обращающихся вокруг Солнца (Theodossiou 2009, 136).
На это можно возразить следующим образом: срединность Гелиоса, подчеркиваемая его местом в небесной иерархии и явной координацией с ним движения планет (в число которых включается и Луна), означает также его центральное положение между вечной и неизменной надлунной сферой и Землей – областью становления, рождения и гибели. Эта срединность соответствует центральному месту «умопостигаемого Солнца» – рожденного Единым умного начала в отношении умных эйдосов и богов (151а). Все вокруг него и от него. Но в телесном мире срединностью оказывается не центр чувственного мироздания (Земля), а солнечная орбита, находящаяся между этим центром и периферией.
Впрочем, Юлиана, похоже, не очень устраивает эта картина из астрономии его времени. Он предполагает, что даже в пространственном смысле Гелиосу стоит приписывать более высокое положение. Так, он ссылается на
«некоторых» (имеется в виду Анаксимандр, хотя милетский мыслитель и не называется здесь по имени), когда говорит:
«некоторые утверждают, даже если не все согласятся с этим, что солнечный диск движется в беззвездном небе много выше области неподвижных звезд». (148а срв. описание космологии Анаксимандра у Ипполита: «выше всего находится Солнце, ниже всего – круги неподвижных звезд» Hipp. Refut., I, 6, 5).
Отсыл к Анаксимандру важен с той точки зрения, что он демонстрирует особенность теоретической оптики Юлиана: «новая» картина мира, созданная астрономами, механиками и математиками–геоцентриками, для него не являлась исключительным источником истины о физическом сущем. Мнения древних также обладали авторитетом, они в каком-то смысле трактовались как даже более значимые – и по поводу описания видимого, и по поводу объяснения смысла чувственно-телесной реальности. В связи с этим гелио-латрия Юлиана наверняка имела различные истоки, как теософские, так и астрономические. Мы думаем, что солнцепоклонничество императора-апо-стата имеет своей главной «теоретической» предпосылкой хорошо известные места из Платона, а также Халдейские оракулы (Nesselrath 2020). Едва ли определяющим фактором в формировании его взглядов был митраизм, упомянутое выше египетское наследие, или Финикия (О месте финикийского наследия в солнцепоклонничестве Юлиана см. Azize 2014) – при всей своеобычности этих гипотез. Финикийцы, египтяне и митраисты (у последних Солнце-Гелиос, напомним, играло специфическую роль – оно, вместе с рядом других персонажей митраистской тео-мифологии, в какой-то момент выступало противником Митры и одолевалось последним) могли быть дополнительными факторами, подтверждающими интуиции императора, но не решающими аргументами.
Важным, на наш взгляд, является фрагмент из Юлиановых «Сатурналий», где император сообщает об источнике своих знаний о небесных порядках. Фрагмент этот выглядит следующим образом:
«и продемонстрировал нам его знаменитый иерофант Ямвлих... и мы, поскольку мы доверились Эмпедотиму и Пифагору, а также Гераклиду Понтийскому, который следовал им» (Wright 1923, 296).
Эмпедотим, вероятно, вымышленный персонаж, на которого ссылался Ге-раклид Понтийский, рассказывая о загробной судьбе душ. Однако само упоминание Гераклида может говорить о хорошем знакомстве Юлиана с его астрономическими представлениями (что неудивительно, т.к. Гераклида активно упоминал Ямвлих – см. «О душе», «О пифагорейском образе жизни»). На тему последних имеется достаточно много разноречивых суждений, в первую очередь касающихся того, можем дли мы считать Гераклида первым гелиоцентристом, или же все-таки центральное положение в «нашем» мире у него занимает вращающаяся вокруг собственной оси Земля. Даже если перед нами геоцентризм, все равно указание на некоторые собственные движения планет трактуется им как движение как минимум части из них вокруг Солнца (обсуждение этой темы – Афонасин 2020, 21–26, 58–76). Это, очевидно, соотносится с указанными выше суждениями Юлиана о сре-динности Солнца и о хороводах, которые водят вокруг него планеты.
Но мы знаем, что Гераклид был также сторонником бесконечности Вселенной. Вот что пишет Евсевий Кесарийский:
«Гераклид и пифагорейцы считают каждую звезду космосом, который включает в себя эфир и расположен в беспредельном [небе]. Это мнение, как сообщается, содержится в некоторых орфических писаниях, которые также делают космосом каждую звезду» (Euseb. Prep. XV.30.8 – пер. Е.В. Афонасина).
И это лишь одно из целого ряда свидетельств (Афонасин 2020, 68–69). Здесь мы прикасаемся к важному аспекту античной космологии, где, скорее всего, соединялись и собственно астрономические, и теософско-антропософские представления, которые, правда, непросто свести к единому знаменателю. Гераклид обожествлял небесные тела, но вместе с тем говорил, что они – отдельные миры. Именно на небесах находятся истоки, откуда в мир спускаются похожие на сияние и простые по своей природе души, и там же лежат некие три тропы для их возвращения. Эта традиция однозначно сравнивается с орфической – и небезосновательно. Достаточно вспомнить «золотые таблички», где душа именуется плодом земли и звездного неба, но при этом уточняется, что род ее – небесный. Возможно, представления о беспредельности мироздания и о множественности миров-космосов мы видим в «папирусе из Дервени» (Афонасин 2023, 1073). Намеки на небесное странствие душ разбросаны в текстах Платона («иные края» «Федона», где Сократ рассчитывает увидеть после смерти лучших людей и иных богов – 63b, «Тимей», где говорится о возведении душ на светила как на некие колесницы – 41d-e, «Федр» с летящими по небесам колесницами душ – 246а и далее). В дальнейшем это, вероятно орфико-пифагорейское представление закрепляется в культуре, свидетельством о чем является картина мироздания из цицероновского «Сна Сципиона».
Бесконечность мироздания и множественность космосов, так хорошо созвучная цитате из Дм. Мережковского, с которой мы начинали данный материал, конечно же не соответствует канонической неоплатонической модели мира. Последняя, безусловно, центрирована: для Юлиана в физически-про-странственном смысле такой центр – Земля, как самое нижнее и несовершенное место в чувственно-телесной Вселенной, в теолого-метафизическом – Солнце, как самое наилучшее. Впрочем, не следует забывать о том, что небесные области мыслились античной наукой, причем уже на ранних ее этапах, как имеющие фундаментальное превосходство в размерах над Землей и подлунным миром. Достаточно вспомнить Аристарха Самосского, утверждавшего, что объем Солнца многократно превышает земной. То, что Аристарх -гелиоцентрист, нас не должно смущать, его расчеты – не исключение, но правило. В геоцентрической астрономии огромные размеры Солнца и ряда планет в сравнении с Землей, а также чудовищные (по меркам тех времен) расстояния также принимались как нечто само собой разумеющееся. Достаточно почитать трактат «О кругообращениях небесных тел» стоика Клеомеда, который вполне «гелиоцентричен» (см. 9-ю главу его Первой книги), однако содержит такое высказывание:
«И не следует отрицать, что имеются некие звёзды, равновеликие с самим Солнцем или превосходящие его по величине. Ведь если помыслить Солнце удалённым отсюда столь далеко, чтобы оно представлялось нам имеющим звёздную величину, то и некая звезда, удалённая столь же далеко, будет равна Солнцу. А если она удалена ещё дальше, она будет больше в отношении высот. Что же касается высочайших звёзд на самом дальнем небосводе, то даже те из них, которые представляются нам меньшими одного дактиля, будут много больше Земли. Ведь Земля, точечная по отношению к высоте Солнца, вряд ли будет различима человеческим зрением с этой высоты, поскольку её величина много меньше величины звёзд. От сферы неподвижных звёзд её не будет видно, даже если предположить, что по яркости она будет равна Солнцу» (Cleom. Cael. II.3 – пер. А.И. Щетникова).
В новелле Лукиана «Правдивая история», содержащей в том числе описание небесных сфер и планет, являющейся пародией на истории про дальние странствия (возможно и на орфико-пифагорейское представление о небесных странствиях души), космическое пространство оказывается в каком-то смысле продолжением земного. Но находящиеся в нем звезды описываются как «земли», обладающие собственными обитателями, т.е. являющиеся особыми «ойкуменами».
Юлиан, смеем предполагать, был хотя бы в самых общих чертах осведомлен с астрономическими описаниями размеров вселенной. Строго говоря, они не противоречили одной из фундаментальных космических метафор для платонизма – образу пещеры из «Государства». Ведь надпещерная, внешняя, область, куда выходит мудрец, радикально превышает пещерную, внутреннюю, в которой пребывают скованные узники. И правит в ней «умопостигаемое солнце».
Таким образом за гелиолатрией Юлиана Отступника стояло, вероятно, не только платоновское наследие, помноженное на халдаизм и солнцепоклон-нические представления других, «традиционных» для Рима, религий, но также и астрономические представления, ведущие происхождение от гео-гелиоцентризма Гераклида Понтийского, а также орфико-пифагорейская антропо- и теософия, с ее учением о небесном мире как источнике наших душ и месте их странствий до и после рождения. Представления об огромных размерах мироздания, развивавшиеся в античной астрономии, даже в ее геоцентрическом варианте, не противоречили этим учениям, а гипотеза о том, что звезды – это отдельные миры, могла толковаться в том же антропософском духе орфиков.
Беседа Юлиана и «Ямвлика», описанная Дм. Мережковским, конечно, плод творческого воображения нашего замечательного писателя, а описание универсума у его явно несет отпечатки ньютоновского учения о пространстве и популярных в его эпоху идея, перекликавшихся с восточными традициями. Однако какие-то интуиции о подлинной «размерности» мироздания, которые мы встречаем в речи Юлиана в его речи «К царю Солнцу», как и в астрономических представлениях Поздней Античности, могут быть соотнесены с процитированным в начале статьи местом из «Смерти богов».
Список литературы "Гелиоцентризм" Юлиана Отступника
- Azize, J. (2014) The Phoenician Solar Theology. An Investigation into the Phoenician Opinion of the Sun found in Julian's Hymn to King Helios. Gorgias Press.
- Lauritzen, F. (2020/21) "Constantine the Great as Ra, the Egyptian Sun-King, in Julian's Hymn to Helios Basileus", Revue des études Tardo-Antiques 10, 169-191.
- Nesselrath, H-G. (2020) "Julian's Philosophical Writings", in Companion to Julian the Apostate. Leiden / Boston: Brill, 38-63.
- Theodossiou, E., Dacanalis, A., Dimitrijević, M., Mantarakis, P. (2009) "The heliocentric system from the Orphic Hymns and the Pythagoreans to emperor Julian", Bulgarian Astronomical Journal 11, 123-138.
- Wright, W.C., ed. (1923) Julian, vol. 3. Greek text and trans. W. C. Wright, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Афонасин, Е.В. (2020) Гераклид Понтийский. Фрагменты и свидетельства. Санкт-Петербург: РХГА. EDN: FLBQNY
- Афонасин, Е.В. (2023) "Другая Земля". Орфический мотив небесного путешествия в античной философии", ΣΧΟΛΗ (Schole) 17.2, 1072-1083. EDN: SCEQFQ
- Мережковский, Д. С. (1990) Собр. Соч. Москва. Т. 1.
- Светлов, Р.В. (2022) "Религиозная экумена империи в воззрениях Юлиана Отступника в контексте проекта восстановления иерусалимского храма", ΣΧΟΛΗ (Schole) 16.1, 231-239. EDN: OVSILK