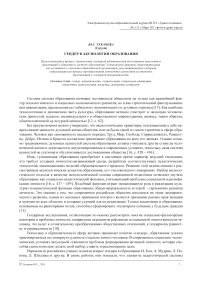Гендер в аксиологии образования
Автор: Тукачева Юлия Сергеевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.
Бесплатный доступ
Прослеживается процесс становления гендерной идентичности под влиянием ценностных ориентаций в обществе и системе образования. Установлены причины стереотипизации как негативного элемента общественной организации, рассматривается гендерная социализация как процесс преобразования личностных ценностей и установок, тяготеющий к гендерной толерантности.
Гендер, идентичность, социализация, социальная адаптация, стереотип, актуализация, ингруппа, аутгруппа, конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/14821617
IDR: 14821617
Текст научной статьи Гендер в аксиологии образования
Сегодня система образования начинает осознаваться обществом не только как важнейший фактор технологического и социально-экономического развития, но и как стратегический фактор выживания цивилизации, преодоления ее глобального экономического и духовного кризиса [13]. Как наиболее технологичная и динамичная часть культуры, образование активно участвует в эволюции человеческих ценностей, идеалов, индивидуального и общественного мировоззрения, являясь, таким образом, общечеловеческой культурной ценностью [12, с. 62].
Без преувеличения можно утверждать, что аксиологические ориентиры, воплощающие в себе непреходящие ценности духовной жизни общества, всегда были одной из основ стратегии в сфере образования. Человек как самоценность высшего порядка, Труд, Мир, Свобода, Справедливость, Равенство, Добро, Истина и Красота составляли ориентацию образования во всех его звеньях. Однако помимо традиционных духовных ценностей система образования должна учитывать другие стимулы человеческой жизни и деятельности, актуализированные в современных условиях, поскольку сама система ценностей не статична и обусловливается достижениями общества [16, c. 428 – 436].
Итак, гуманизация образования приобретает в настоящее время характер ведущей тенденции, что требует создания личностно-развивающей среды, разработки соответствующих педагогических технологий, инновационных моделей образовательного процесса. Решение этой задачи связано с рассмотрением аксиологических аспектов образования, его «человеческого измерения». Выбор аксиологического подхода в качестве методологической основы современной педагогики позволяет изучать образование как социально-педагогический феномен, учитывающий проблемы социальной идентификации личности [16, c. 437 – 439]. Подобный феномен играет немаловажную роль в реализации культурно-гуманистической функции образования, общая направленность которой – гармонично развитая личность. Это связано с тем, что современное российское общество находится на этапе демократического развития, одним из основных принципов которого является признание равных прав женщин и мужчин во всех областях и создание условий для их реализации. Только воспитание и образование, основанные на равноправии полов, способны сформировать эгалитарное сознание у будущих граждан [13].
Гендерные исследования, позволяющие по-новому рассмотреть многие социально-философские категории и проблемы личности, направлены на развитие рефлексии и социальной ответственности человека, что ведет к сознательному преобразованию общественных отношений, к гендерному равенству и справедливости [10].
Поскольку в образовательную сферу активно проникает понятие «гендер», образование должно ориентироваться на гендерную сущность отдельно взятого человека. В современных социально-экономических условиях актуальной становится проблема формирования активной личности, которая способна самостоятельно делать свой выбор, ставить и реализовывать цели.
Первыми из российских ученых подняли вопрос гендера в образовании И. Кон, А. Мудрик, Л. Попова, Л. Штылева и другие. В своих работах они показали, что элементы педагогической системы
(цели, содержание, методология и формы обучения) традиционно «бесполые». Ученые признали, что влияние гендерных ролей и стереотипов на процессы воспитания и образования значительно. Целью гендерного подхода в образовании является деконструкция традиционных культурных ограничений развития потенциала личности в зависимости от пола, осмысление и создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей девушек и юношей в процессе педагогического взаимодействия [1]. Осуществлять гендерный подход в образовании детей значит действовать с пониманием социального, конструктивистского происхождения категорий «мужского» и «женского» в обществе, ставить личность и индивидуальность ребенка в развитии и воспитании выше традиционных рамок пола [18].
Общепризнанно, что одной из важнейших социально-культурных задач на этом пути является преодоление всех видов дискриминации и подавления свободного развития личности, в том числе и по признаку пола [3]. Для того чтобы индивиды как свободные моральные существа могли жить во взаимном согласии, необходимо распространить принципы свободы не только на мужчин, но и на женщин, которые до недавнего времени были ограничены частным пространством дома, семьи [10]. Гендерное образование может сыграть решающую роль в элиминировании неравенства гендерных ролей, ведь основное его назначение – преодоление сексизма в образовательных системах, поворот образования к целостной картине мира [3]. Таким образом, гендерная дифференциация становится процессом, в котором биологические различия между мужчинами и женщинами наделяются социальным значением и употребляются как средства социальной классификации [1].
Напомним, что образование призвано выполнять функции по социализации и социальному развитию человека, т.е. по формированию его аксиологического потенциала. У взрослых социализация выражается главным образом в изменении их поведения, у детей – в формировании ценностных ориентаций. Усвоенный и личностно видоизмененный опыт становится частью социального поведения человека [2, с. 337]. В ходе социализации происходит взаимодействие биологических свойств человека с социальным контекстом и рождается личность с определенным набором психологических свойств [15, с. 101]. Традиционная же полоролевая социализация девочек и мальчиков, в которой активно участвует школа, продолжает воспроизводить патриархатные стереотипы взаимодействия полов в общественной и приватной сферах. Эти стереотипы все чаще вступают в противоречие с реальными трансформациями гендерных отношений в современном российском обществе, становятся препятствием для раскрытия индивидуальностей, равноправия полов, устойчивого развития демократических отношений [18].
По мнению социальных психологов, объяснение многих гендерных различий следует искать не в гормонах и хромосомах, а в социальных нормах, приписывающих нам различные типы поведения, ат-титюды и интересы в соответствии с биологическим полом. Наборы норм, содержащие обобщенную информацию о качествах, свойственных каждому из полов, называются половыми, или гендерными, ролями. Человек оценивает свое поведение как правильное, пока наблюдает такое же поведение у членов референтной группы [17].
Зарубежные психологи У. Томас и Ф. Знанецкий ввели понятие «социальная установка» («атти-тюд»), которое было определено как «психологическое переживание индивидом ценности, значения, смысла социального объекта» или как «состояние сознания индивида относительно некоторой социальной ценности». Д. Узнадзе полагал, что установки лежат в основе избирательной активности человека, а значит, являются показателем возможных направлений деятельности. Согласно схеме исследователя, установка всегда возникает при наличии определенной потребности, с одной стороны, и ситуации удовлетворения этой потребности – с другой. Первой сферой, где реализуются потребности человека, является ближайшее семейное окружение, следующей – контактная (малая) группа, в рамках которой непосредственно действует индивид, далее – более широкая сфера деятельности, связанная с определенной областью труда, досуга, быта, наконец, сфера деятельности, понимаемая как определенная социально-классовая структура, в которую индивид включается через усвоение идеологических и культурных ценностей общества.
Ж. Годфруа выделил три основные стадии в формировании социальных установок у человека в процессе его социализации: первая стадия детства (до 12 лет) характеризуется тем, что установки, развивающиеся в этот период, соответствуют родительским моделям. С 12 до 20 лет установки формируются на основе жизненного опыта и усвоения социальных ролей. Взгляды и позиции, сформированные в этот период, остаются неизменными. Третья стадия (от 20 до 30 лет) характеризуется кристаллизацией социальных установок, формированием на их основе системы убеждений, которые сохраняют стабильность, поэтому изменить установки в этом возрасте уже трудно [15, c. 212 – 213].
Итак, полем формирования социального пола, или гендера личности, является ее социализация, контролируемая системой ценностей образования. Социализация предполагает не только сознательное усвоение ребенком норм, ценностей, стереотипов, адаптацию к социуму, но и формирование совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, собственного стиля жизни и субъективного социального опыта [4, c. 34]. Последний в свою очередь трансформируется в индивидуальную систему ценностных ориентаций и является важнейшей подсистемой личности. Ценности выполняют функцию перспективных стратегических жизненных целей и главных мотивов жизнедеятельности.
При всем многообразии ценностей образовательной сферы их можно условно разделить на две основные группы: сохранения существующего порядка вещей и его преобразования [6, с. 1 – 3]. Они положены в основу двух основных подходов к понятию «социализации». Первый подход был сформулирован в работах Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. Согласно их точке зрения, позиция человека в процессе социализации определяется как пассивная по отношению к активной позиции общества. Второй подход был сформирован Ч. Кули и Дж. Г. Мидом, которые отстаивают активность человека в процессе социализации [4, c. 31].
Говоря о взаимодействии личности со средой, необходимо говорить о формировании ее идентичности в процессе социализации. Институты образования являются одними из главных агентов социализации, причем важную роль здесь играет не только формальная организация и влияние взрослых, но и взаимодействие в классе со сверстниками. Большинство современных школьных систем основано на принципе достижительности – по критерию успеваемости выстраивается школьная иерархия, где хороший ученик автоматически принимается в качестве положительной личности, и наоборот. Происходит постоянное направление ребенка в нужную учителю сторону с помощью особой системы норм, ценностей и санкций. Именно школа в большей степени формирует конформизм/нонконформизм в структуре ценностей взрослеющего человека [18].
Согласно концепции социализации, уровень развития личности, система ее норм и ценностей, стиль и образ жизни являются результатом взаимодействия индивида и социальной среды, поэтому идентичность в первую очередь имеет социальный характер происхождения [14, c. 220 – 221]. Однако, когда человек считает необходимым подчеркнуть свою индивидуальность, он отказывается от восприятия себя как члена группы. Другими словами, личная и социальная идентичность принимаются человеком попеременно, в зависимости от его целей и ситуации, в которой он находится, – это так называемая одномерная модель идентичности. В свою очередь, актуализация социальной идентичности связана с принятием ядерных (центральных) элементов ее структуры. Если человек отвергает периферические элементы, это не означает отвержения социальной идентичности в целом. Однако если он не принимает ядерные элементы личностной идентичности, можно считать, что он не сформировал данную идентичность. Социальная идентичность формируется прижизненно [5, с. 41].
Пол человека влияет на формирование социальной идентичности, проявляя себя в новом обличии категории гендера, на основании которого в обществе действуют соответствующие стереотипы. Необходимо понять, когда именно идентичность личности начинает деформироваться под влиянием этих стереотипов. Для этого важно проследить жизненный путь человека, а именно процессы, происходящие с его психикой на разных стадиях социализации.
Характеризуя социально-психологический статус человека, принято говорить не только об актуализации идентичности, но и о параметрах адекватности, адаптированности и зрелости личности.
Поскольку идентичность представляет собой механизм адаптивного назначения, она задействуется в различных социальных ситуациях для выработки человеком адекватного поведения [2, c. 346 – 347]. Целостность, устойчивость системы ценностей определяет зрелость личности [6, с. 1 – 3]. Сложнее обстоит дело с процессом адаптации. Ж. Пиаже рассматривает его как единство двух противоположно направленных процессов – аккомодации и ассимиляции. Преобладание на уровне социальной адаптации процессов аккомодации, т.е. изменение самой личности, приводит к появлению конформности, агрессивным проявлениям, негативизму. Социальная адаптация по своему содержанию шире процессов социализации, т.к. включает не только приспособительный, но и развивающий аспекты [2, c. 343]. Учитывая вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что осознанная стереотипизация мышления начинается именно на стадии адаптации. Она может сопровождаться либо принятием, либо неприятием существующих «правил игры». Личности приходится учиться успешно социализироваться и актуализировать свою гендерную (социальную и половую) идентичность.
Формирование социальной идентичности личности происходит в рамках традиционных институтов социализации: семьи, школы, СМИ [5, c. 85 – 89]. Этот факт подчеркивает социальную сущность личности. А.Н. Леонтьев считал, что личность получает свою структуру из видового строения человеческой деятельности и характеризуется пятью потенциалами: познавательным, ценностным, творческим, коммуникативным и художественным. Аксиологический потенциал личности определяется приобретенной ею в процессе социализации системой ценностных ориентаций в нравственной, политической, религиозной, эстетической сферах, т.е. ее идеалами, жизненными целями, убеждениями и устремлениями [15, c. 92].
Семья как социально-психологическая целостность оказывает социализирующее воздействие на личность посредством нормативного и информационного влияния. Чем сплоченнее семья, тем эффективнее нормативное воздействие. Отсутствие сплоченности, дезорганизация семьи открывают двери для внесемейных влияний. Нормативные (в том числе семейные) влияния действуют с помощью норм-образцов, моделей поведения, знание которых позволяет каждый раз не искать заново решения в стандартных ситуациях, а вести себя как бы автоматически, в соответствии с принятыми в данной социокультурной среде и усвоенными личностью шаблонами [14, c. 220 – 221].
Сохранение целостной семьи, поддержание ее жизнедеятельности достигается через умение ее членов решать семейные конфликты. Изучение природы семейных конфликтов привело к появлению гендерного направления в социологии семьи, предметом которого выступают половые роли и социальные взаимоотношения полов. Возникает понятие «гендер» – социальный пол, определяемый совокупностью норм поведения для мужчин и женщин, связанных с социальными ролями и социальным статусом (И.С. Кон) [4, c. 63].
Если одна из основных целей семьи – поддержание гендерного неравенства, то другая состоит в гарантировании того, чтобы гендерная идентичность отца или матери была передана детям, т.е. следующему поколению. Именно в семье впервые сеются семена гендерных различий [9, с. 198 – 199].
В теории Дж. Мида подчеркивается та особенность ранней социализации, которая связана с неизбежностью уравновешивания противоположных тенденций, а следовательно, с важной ролью семейного Мы в становлении Я. Степень вовлеченности в Я жизненных ценностей определяет как иерархию потребностей, так и выбор тех или иных средств их удовлетворения. В процессе вторичной социализации падает значение семьи и усиливается роль образовательных учреждений [14, c. 228].
Ко времени, когда дети идут в школу, они уже имеют четкое представление о половых различиях [19]. М. Стэнуорт изучила среди прочего отношения учителей к девочкам. Учителя считали, что образование для девочек менее важно, чем для мальчиков, поскольку школьницы рассматривались прежде всего как будущие матери и жены, а не как потенциальные кормильцы. В результате мальчикам уделялось больше внимания, чем девочкам, даже в тех классах, где девочек было в два раза больше. Девочки недооценивали свои способности, мальчики переоценивали свои. Конкретные особенности социальной структуры, подкрепленные культурными представлениями, ценностями и восприятием, интерпретируются учащимися через поведение преподавателя. Эта подсознательная схема создает контекст, на фоне которого происходит ролевая подготовка и целенаправленная социализация. Характерной чертой образования, по мнению социологов-функционалистов, является поддержка социально приемлемых норм и ценностей. Например, иерархия преподавательского состава напоминает детям, что директора более могущественны, чем преподаватели языка; мужчины в общем более влиятельны, чем женщины (Э. Дюркгейм). Бессознательно эти «уроки» дети переносят на свои отношения в обществе [3].
Таким образом, воспитание и обучение детей в школе во многом зависят от того, как дети того или иного пола воспринимаются учителем, какие роли он приписывает мальчикам и девочкам, а главное – учитывает ли их половые особенности при подаче учебного материала и воспитании. По данным А.С. Волович (1990), среди тех учащихся выпускных классов, которые в наибольшей степени соответствуют школьным требованиям, подавляющее большинство (85%) составляют девушки. А юноши, попавшие в число таких, обладают традиционно женскими качествами: примерным поведением, усидчивостью, исполнительностью и т.п.
Мы все чаще становимся свидетелями правоты Г. Компейре, который говорил о том, что однажды может остаться только женский пол, но исчезнет женственность. Действительно, по данным Г.М. Бреслава и Б.И. Хасана, и девушки, и юноши называют желательными у женщин такие традиционно мужские качества, как мужественность, независимость, уверенность в себе, целеустремленность, которые доминируют над чисто женскими качествами [8, с. 234].
С очень раннего возраста физический внешний вид привязан к социальным определениям мужественности и женственности. Девочку хвалят за привлекательность, мальчика – за спортивные достижения и активность. Эти различия сохраняются и в юности. Самые ранние отношения ребенка с другими детьми становятся ареной, на которой ребенок выражает и использует гендерные ожидания, воспринятые от родителей и окружающего мира. Исследователи обнаружили, что уже после первого года в школе у ребенка развивается тенденция выбирать приятелей по принципу принадлежности к одному и тому же полу. В таких играх мальчики изучают опытным путем те модели поведения, которые от них ожидают как от будущих мужчин, избегая «женственности». Действия и идентичности девочек кажутся выстроенными, скорее, на прямой имитации, чем на отталкивании и избегании маскулинности. «Десткие взаимодействия – это не подготовка к жизни, – приходит к выводу социолог Барри Торн. – Они – сама жизнь» [9, c. 202].
Т.И. Юферева также полагает, что основной сферой жизнедеятельности, в которой формируются представления подростков об образах мужчин и женщин, является сфера взаимоотношений с противоположным полом [8, c. 46 – 47].
Тем не менее, считается, что благодаря школе дети смогут преодолеть ограничения социальной среды, из которой они происходят. Массовое образование в современных обществах неразрывно связано с идеалом равенства возможностей, согласно которому люди достигают положения, соответствующего их талантам и способностям [19, c. 85].
Исторически женщины и девочки были отлучены от обучения в школе. Но к концу XIX в. гендерная идеология «разделения сфер» привела к вытеснению женщин из других секторов рынка труда, и они вскоре начали видеть в начальном образовании путь профессиональной карьеры, которую можно совмещать с материнскими функциями в семье. В результате начальное образование «феминизировалось». Престиж профессии и размер жалованья упал, и мужчины перестали стремиться работать в школе, что сделало ее еще более «женской». В начале XXI в. женщины по-прежнему составляют большинство работников в начальном образовании, почти одни женщины работают в яслях и учреждениях специального образования. Чем выше уровень образования, тем меньше женщин среди педагогов [9, c. 261].
В последние годы представления о мужских и женских половых ролях подвергаются критике со стороны ряда авторов. Представители новой точки зрения считают, что традиционные половые роли ограничивают и сдерживают развитие не только женщин, но и мужчин [8, c. 48 – 49]. В то же время гендер множественен, относителен и ситуативен. Различные институциональные контексты формируют различные формы мужественности и женственности. Гендер, таким образом, является не свойством индивидов, а набором типов поведения, провоцируемых в определенных социальных ситуациях [9, c. 150]. Следовательно, социальный пол конструируется социальной практикой. Общество формирует систему норм поведения, предписывающую выполнение определенных ролей в зависимости от биологического пола индивида. Соответственно, возникает жесткий ряд представлений о том, что есть «мужское» и что есть «женское» в данном обществе [18].
Анализируя концепцию С.де Бовуар о присвоении гендера и о гендере как форме становления, мы понимаем, что нет необходимой связи между полом и гендером. Если пол – это анатомические признаки бинарного отличия между человеческими телами, а гендер – культурное значение, которое обретает пол, тогда гендер не имеет однозначной зависимости от пола. В этом случае он становится новообразованием, каждодневным событием, от которого зависит идентичность [7, c. 302 – 303].
Философско-социологический анализ духовного состояния российского общества конца XX – начала XXI в., проведенный Ю.В. Манько, показал, что ведущими в духовной жизни россиян, особенно молодого поколения, стали «социальное равнодушие» и «эгоистический активизм». Противоречия между личностью и социальными институтами, организациями, восприятие их как враждебных дополняются специфическим отношением к социальному и культурному миру как чуждому. Духовное отчуждение получает определенное выражение в социальных установках, ценностных ориентациях, сознании и самосознании личности [11, c. 109 – 111].
Помимо этого проблема маскулинизации социальных ролей, ведет к тотальному половому безразличию и ликвидации особенностей половой жизнедеятельности. С точки зрения полового различия, стратегия равенства должна быть направлена на признание особенностей гендерной жизнедеятельности при сохранении как мужской, так и женской идентичности, выражающейся, в первую очередь, в материнстве. Интеракционистские идеи Г. Мида лежат в основе современной социологической теории обмена. Суть ее заключается в следующем: взаимодействие людей есть обмен ценностями, имеющими социальную значимость [4, c. 63 – 64]. Таким образом, мужчины и женщины обнаруживают взаимозависимость в обществе и неизбежность примирения своих принципов.
В заключение необходимо подчеркнуть, что в процессе своего развития личность вырабатывает ценности, нормы и идеалы, которые и определяют ее путь [6, с. 1 – 3]. В связи с этим аксиология как система педагогических взглядов, основанная на понимании и утверждении ценностей личности, лежит в основе гендерного измерения в образовании как ключевого фактора формирования гендерной идентичности.
Список литературы Гендер в аксиологии образования
- Батракова Л.Г., Краснова Г.Н. Необходимость гендерного подхода в образовании. URL: http://yaratiso.ru/index. php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=50.
- Битянова М.Р. Социальная психология: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. СПб.: Питер, 2008.
- Волжанова О.А. Значение гендерного образования и перспектива научного поиска//Вестн. Удмурт. ун-та. 2008. Вып. 2. С. 147 -148.
- Гольцова Н.В. Педагогическая социология: учеб. пособие для вузов. М.: Акад. проект, 2006.
- Гулевич О.А. Психология межгрупповых отношений: учеб. пособие. М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2008.
- Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. М.: Изд. корпорация «Логос», 2000.
- Женщины, познание и реальность: Исследования по феминистской философии/сост. Э. Гарри, М. Пирсел; пер. с англ. М.: Рос. полит. энцикл., 2005.
- Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. СПб.: Питер-Пресс, 2002.
- Киммел М. Гендерное общество/пер. с англ. М.: Рос. полит. энцикл., 2006.
- Ладыкина Т.А. Гендерный аспект социально-философских категорий свободы и ответственности//Международные юридические чтения: материалы науч.-практ. конф. 14 апреля 2005 г. Омск: Изд-во Омск. юрид. ин-та, 2005. Ч. 1. С. 198 -202.
- Манько Ю.В., Оганян К.М. Социология молодежи: учеб. пособие. СПб.: Петрополис, 2008.
- Расулова Л. Гендер и образование. URL: http://www.dem.az/content/view/460/2.
- Социология семьи: учебник/под ред. проф. А.И. Антонова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007.
- Столяренко С.И. Самыгин. Ростов н/Д.: Феникс, 2009.
- Хрестоматия по педагогической аксиологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/сост. В.А. Сластенин,
- Г.И. Чижакова. М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: МОДЕК, 2005.
- Шон Бурн. Гендерная психология. URL: www.i-u.ru\biblio.
- Штылева Л.В. Педагогика и гендер: развитие гендерных подходов в образовании. URL: http://psymania.info/gend/polwosp/pedagogika.php.
- Giddens A. Sociology. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1994.