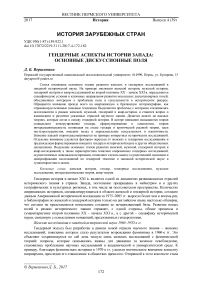Гендерные аспекты истории Запада: основные дискуссионные поля
Автор: Вершинина Дарья Борисовна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История зарубежных стран
Статья в выпуске: 4 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена основным этапам развития женских и гендерных исследований в западной исторической науке. На примере эволюции женской истории, мужской истории, гендерной истории и квир-исследований во второй половине XX - начале XXI в. определяются специфические условия и ключевые направления развития нескольких дисциплинарных полей, объединенных интересом к проблемам пола и сексуальности в историческом ракурсе. Обращается внимание прежде всего на американскую и британскую историографию, как отражающую основные западные тенденции. Выделяются проблемы, с которыми сталкивались исследователи в рамках женской, мужской, гендерной и квир-истории, и ставится вопрос о взаимосвязи и различии указанных отраслей научного знания. Делается акцент на важных теориях, которые легли в основу гендерной истории. В центре внимания оказываются теория социального конструирования гендера, сформулированная в социологии, теория интерсекциональности, возникшая на стыке гендера и критической расовой теории, идеи постструктуралистов, внесшие вклад в переосмысление сексуальности и идентичности. Значение каждой теории рассматривается на примере конкретных исторических исследований. Отдельное внимание уделяется факторам перехода от женских к гендерным исследованиям и предпосылкам формулирования концепта гендера в исторической науке и других общественных дисциплинах. Выделение основных этапов развития женской, мужской, гендерной истории и квир-исследований, а также характеристика тематики современных гендерных исследований, осуществляемых западными историками, позволяют сделать вывод о существенной эволюции и диверсификации исследований по гендерной тематике в западной исторической науке и гуманитаристике в целом.
Женская история, гендер, гендерные исследования, мужские исследования, интерсекциональная теория, квир-теория
Короткий адрес: https://sciup.org/147203833
IDR: 147203833 | УДК: 930(1-87):159.922.1 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-4-172-182
Текст научной статьи Гендерные аспекты истории Запада: основные дискуссионные поля
Гендерная история в начале XXI в. является одной из динамично развивающихся отраслей исторического знания в странах Запада, постепенно превращаясь в мейнстрим и в других географических и культурных регионах, в том числе на постсоветском пространстве. Количество американских историков, специализирующихся в области женской и гендерной истории, согласно данным Американской исторической ассоциации за 1975–2005 гг. выросло более чем в восемь раз, а библиография по женской и гендерной истории только на английском языке настолько обширна, что сегодня не представляется возможным создание ее исчерпывающей базы. Развитие новых полей в рамках исторического знания отражает, с одной стороны, общие процессы в гуманитаристике второй половины XX – начала XXI в., а с другой – специфику исторической науки, связанную с осмыслением концепций, предложенных гендерологами.
Женские исследования в западной исторической науке 1960–1970-х гг.
Гендерный подход был разработан в рамках новой отрасли научного знания – женских исследований, появление которых стало результатом возрождения феминизма в 1960-е гг. Это объясняет сохранившуюся по сей день тесную связь женских исследований с феминистской теорией: вопросы, которые оказывались важны для движения за женское освобождение, становились проблемами научных исследований в академической и университетской среде. К примеру, благодаря феминисткам историки в 1970-е гг. уделили значительное внимание концепту патриархата, проследив его становление в обществах прошлого. Отправной в этом контексте стала
статья американской исследовательницы Барбары Уэлтер, в которой вводилось понятие культа «истинной женственности» как основы патриархатной системы американского (и европейского) общества XIX в. [ Welter , 1966].
Именно активистки движения за женское освобождение, работавшие в американских университетах и стремившиеся придать феминистскому сознанию теоретическую фундаментальность, и стали пионерами новой дисциплины – Women’s Studies. Осознание того, что объектом исследования прежде был исключительно мужской опыт, произошло и в исторической науке, где феминистки сформулировали идею о необходимости написания «herstory» – истории женщин [ Пушкарева , 2001]. Историки женщин (термин «историки женщин» является калькой с англоязычного historians of women и подразумевает тех, кто занимаются историей женского пола) обратились к «возвращению» несправедливо «исключенных» из публичного дискурса женщин в качестве объекта гуманитарных и социальных наук. Красноречивыми являются названия известнейших работ в американской и британской историографии: «Спрятанные от истории. 300 лет женского угнетения и борьбы против него» [ Rowbotham , 1975] и «Становясь видимыми: Женщины в европейской истории» [Becoming Visible…, 1977].
Работы этого периода предлагали изучать тех, кого традиционно не замечали как маргинальных, недостойных внимания, «Других», если использовать терминологию французской писательницы Симоны де Бовуар [ Бовуар , 1997]. Обращение историков к женскому опыту предполагало не только анализ угнетения женщин в разные исторические эпохи, но и описание женской социальной и политической активности [ Liddington, Norris , 1978], что позволило представить женщин субъектами исторического процесса, действительно «вернуть их в историю». К примеру, в британской историографии 1970-х гг. особое внимание уделялось активности женщин-работниц, а в 1980-е гг. в США пионерской в этом отношении стала работа Элис Кесслер-Харрис, посвященная влиянию класса, этноса и расы на женский труд [ Kessler-Harris , 1982].
Несмотря на активное развитие женской истории в конце 1960-х – 1970-х гг., основные работы этого периода представляли собой скорее описание женских историй, чем теоретизирование по поводу причин и сущности угнетения женщин в разные эпохи. Любые концептуальные дебаты и теоретические прорывы происходили в то время в рамках более широкой дисциплины – Women’s Studies. Междисциплинарность женских исследований была связана с консервативностью традиционных наук и трудностями привлечения внимания к женской проблематике в границах этих сфер научного знания. Инициаторы программ женских исследований легко преодолевали эти рубежи и предлагали рассматривать женский опыт с точки зрения методологических установок разнообразных научных полей. В результате женские исследования быстро вошли в мейнстрим образовательного процесса: так, к 1980 г. только в США читалось до 20 тыс. курсов по женским исследованиям [ Ярская-Смирнова , 2001].
От женских к гендерным исследованиям: 1980–1990-е гг.
К началу 1980-х гг., однако, стало очевидно, что феминистская направленность Women’s Studies превращала их в изолированную отрасль. Выходом из ситуации оказался переход от женских к гендерным исследованиям, которые выглядели более нейтральными и позволявшими изучать не только женщин, но и мужчин [ Де Лауретис , 2001; Скотт , 2001; Пушкарева , 1998].
В основе гендерного подхода лежало признание того, что если пол связан с биологическими различиями мужчин и женщин, то гендер представляет собой исторически обусловленные культурные представления о том, каковы мужские и женские роли в конкретном обществе в конкретную эпоху. Осмысление индивидом принадлежности к определенному гендеру происходит на протяжении всей жизни и предполагает присвоение поведенческих нормативов, приписываемых мужчинам и женщинам. Как заявила де Бовуар в хрестоматийной работе 1949 г. «Второй пол», «…женщиной не рождаются, ею становятся» [ Бовуар , 1997, c. 310].
Интерес к женскому опыту неизбежно предполагал обращение к опыту мужскому как противостоящему женскому, а также к анализу систем доминирования/подчинения, влияющих на оба пола, что было невозможно осуществить в рамках отдельно взятой женской истории (женских исследований). В этом контексте важно отметить, что введение понятия «гендер» не столько меняло объект исследования (хотя происходило и это), сколько давало ученым методологический инструментарий для анализа человеческого опыта, настоящего или прошедшего. Другими словами, гендер – это не объект изучения, а набор принципов, позволяющих анализировать самые разнообразные социальные процессы и явления [Canning, 2006], поэтому кажется интересным мнение американского историка Нэнси Котт о том, что гендерную историю корректнее называть «гендерно-сознательной историей», т.е. историей, воспринимающей гендер как важнейший инструмент, с помощью которого нужно анализировать самые разнообразные исторические процессы [Cott].
Осознание социального характера поведенческих различий женщин и мужчин, традиционно связываемых с биологией, произошло благодаря нескольким факторам. Одним из них стали антропологические и этнографические изыскания, фиксировавшие человеческие культуры, в которых существовали три или даже четыре пола (см.: [ Кон , 2006, с. 116-120]), отмечалось разделение гендеров не только по признаку пола, но и, к примеру, по критерию возраста, а также разное распределение качеств, закрепленных в нашем сознании за мужчинами и женщинами. Следует отметить работы американского антрополога Маргарет Мид, которая в результате изучения племен Новой Гвинеи еще в 1930-х гг. утверждала, что различие полов является порождением «культуры, требованиям которой учится соответствовать каждое поколение мужчин и женщин» [ Мид , 1988, c. 415].
Авторы биологических исследований также перестали противопоставлять мужчин и женщин как существ с разными гениталиями, а предпочли воспринимать биологические различия как некий континуум, в центре которого оказывались так называемые «интерсексуалы» (ранее называемые «гермафродитами»). Действительно, попытки биологов провести четкую разграничительную линию между полами являются скорее результатом влияния культурных норм, касающихся бинарности мужского и женского, чем отражением реальной ситуации. Культурная природа гендерных различий активно демонстрируется также транссексуальными и трансгендерными (желающими сменить пол в связи с диагнозом «гендерная дисфория») людьми. Доступность операций по смене пола начиная с 1950-х гг. поставила перед исследователями ряд новых вопросов, позволяющих подвергнуть сомнению незыблемость категории «биологический пол».
Под влиянием перечисленных факторов гендерный подход стал применяться и в исторической науке. Ключевое влияние на развитие собственно гендерной истории как новой отрасли научного знания оказала в 1986 г. программная статья американского историка Джоан Скотт «Гендер: полезная категория исторического анализа», в которой был представлен постструктуралистский вариант осмысления понятия «гендер». Выступая за концептуализацию гендера в контексте «культурного», или «лингвистического», поворота, она предлагала задаться вопросом о том, как гендер работает, создавая кажущиеся природными различия мужского и женского, т.е. как формируются разные гендерные дискурсы. Кроме того, Скотт утверждала, что гендер представляет собой «составной элемент социальных отношений, основанный на воспринимаемых различиях между полами» и «первичное средство означивания отношений власти» [Скотт, 2001, c. 422]. Она постулировала важнейший тезис гендерного анализа, согласно которому язык гендера пронизывает все отношения, связанные с властью/подчинением (доминирование всегда описывается в маскулинных терминах, а подчинение – в феминных), делая все социальные явления гендеризированными по своей сути. Не случайно американский социолог Майкл Киммел назвал свою работу «The Gendered Society», что правильно будет перевести как «Гендеризированное общество». В его понимании «гендер формирует каждую и каждого из нас, нашу жизнь и наше общество» [Киммел, 2006, c. 36].
Мужские исследования в социологии и истории: 1980 – 2000-е гг.
Внедрение понятия «гендер» предполагало переосмысление не только женской, но и мужской истории, поскольку ранее восприятие мужского опыта как универсального мешало анализу этого опыта как сугубо мужского; мужчины, становившиеся героями исторического повествования, воспринимались, в отличие от женщин, как агендерные персонажи. В этом плане дестабилизация понятия «женщина» дала толчок развитию исследований маскулинности [ Стяжкин а, 2010], и центральный посыл нового направления заключался в том, что гендер организует мужские жизни в такой же степени, в какой и жизни женские, и что, оказываясь в основе мужской идентичности, он определяет взаимоотношения мужчин с женщинами, детьми и другими мужчинами.
Большинство исследователей Men’s Studies предпочитают говорить не о маскулинности, а о маскулинностях, поскольку, как утверждает австралийский социолог Рейвин Коннелл, категория «мужчина» так же, как и категория «женщина», не является универсальной, а предполагает различные типы поведения и модели. В работе 1987 г. «Гендер и власть: общество, личность и сексуальная политика» [ Connell , 1987] и дальнейших своих исследованиях [ Connell , 1995; Коннелл , 2001] Коннелл выделила четыре таких типа: гегемонный, подчиненный, сообщнический и маргинализированный. Особое внимание она уделила первому типу, характеризующемуся проявлением мужской власти над женщинами и подчиненными мужчинами, культом физической силы, склонностью к насилию, эмоциональной невыразительностью и стремлением к соревновательности.
Концепция гегемонной маскулинности (детальный анализ концепции гегемонной маскулинности, а также возможностей ее применения в исторических работах см. [ Tosh , 2004]) оказалась востребована в исторической науке, поскольку позволяла не только анализировать взаимоотношения мужчин и женщин в различные исторические эпохи, но и определять специфику отношений в мужских сообществах. Логично в связи с этим обращение исследователей к проблемам соотношения маскулинности и тех паттернов, которые не вписывались в нормативное мужское поведение. К примеру, выдающийся британский историк Джон Тош в работе «Место мужчины: Мужественность и дом среднего класса в викторианской Англии» и последующих работах [ Tosh , 1999, 2005] обратился к истории мужского опыта в приватной сфере, которая закреплялась в XIX в. за женским полом. Критикуя феминистское видение викторианской маскулинности как репрессивной и агрессивной, он утверждал, что викторианский мужчина в действительности никогда не отказывался от исторической роли защитника и кормильца семьи и что, напротив, семья оказалась в тот период в центре концепта гегемонной маскулинности. Интересно, что исследование Тоша признают своеобразным продолжением и в то же время ответом на работу Леонор Давидофф и Кэтрин Холл [ Davidoff, Hall , 1991], считающихся авторами идеи о постепенном вытеснении женщин (как хозяек салонов в XVIII в.) из политического истеблишмента в сферу пригородного поместья и управления его хозяйством.
Гендерные исследования на рубеже XX и XXI вв.: гендер, раса, сексуальность, квир
Одним из важных достижений феминизма 1980-х гг. стало переосмысление главной феминистской концепции предшествующего десятилетия – идеи патриархата и связанной с ней мысли о целостности категории «женщина». В результате большое внимание стало уделяться как географическим различиям в положении женщин, так и специфическому опыту небелых женщин. Особого внимания, безусловно, добились афроамериканки, и анализ именно их жизненных траекторий, а также места в феминистской борьбе послужил основой для разрушения некогда единой категории «женщина».
Одними из первых исследований, заложивших основы изучения жизни черных рабынь в США, стали книги Деборы Грей Уайт и Жаклин Джонс 1985 г. [White, 1985; Jones, 1985]. В концептуальном же плане прорывной стала статья Эвелин Брукс Хиггинботэм, изданная уже в 1992 г. и описывавшая расу как «метаязык», который оказывает «мощное, всеобъемлющее влияние на конструирование и изображение других социальных и властных отношений» [Higginbotham, 1992, р. 252]. Наиболее влиятельным в американской историографии с 1980-х гг. и по сей день остается регулярно переиздаваемый сборник «Неравные сестры: Мультикультурный ридер по американской женской истории» [Unequal Sisters…, 2008].
Результатом пристального интереса к полу и расе как двум взаимозависимым и в то же время параллельным категориям стало появление на рубеже 1980 и 1990-х гг. теории «взаимопересечений» (или интерсекциональной теории), основанной на признании множественности идентичностей. Сторонники новой теории полагали, что комбинация различных идентичностей (женщина, черная, лесбиянка) не просто умножает число проблем, но позволяет приобрести по существу новый опыт.
В рамках теории интерсекциональности историки женщин, изучавшие американское рабство, в 1990–2010-х гг. обратились к анализу того, как гендер использовался в конструировании расовых категорий, а также того, как гендер и раса соединялись в создании и развитии института рабства (обзор историографии по проблеме истории женского рабства см.: [ Rose , 2010]. В целом за прошедший с момента появления интерсекциональной теории период проблеме соотношения расовой, сексуальной и гендерной политики в американской истории посвящено много работ [ Brown , 1996; Roberts , 1997; Fischer , 2002; Heap , 2009; Pascoe , 2009, Interconnections … , 2012; Clark , 2013]. В Британии же в фокусе исследований, отталкивающихся от теории интерсекциональности, было переосмысление истории Британской империи и колониализма [ Burton , 1998; Gender, Sexuality and Colonial…, 1999; Krebs , 1999; Visram , 2002; Wilson , 2002; Magubane , 2003; Ghosh , 2006; Empires and Boundaries…, 2008; Legg , 2014].
Исследования, посвященные тому, как социально конструировались пол и раса, оказались возможны благодаря переходу к постструктурализму, который предложил задаться вопросом о том, как язык, политические или религиозные системы формируют системы знания, а те становятся основой власти. Обращение одного из самых известных постструктуралистских философов и историков Франции, Мишеля Фуко, к истории викторианской сексуальности позволило продемонстрировать, как акты проговаривания/умалчивания сами по себе становились инструментами власти. Утверждение сексуальности как объекта исторического изучения произошло именно благодаря знаменитой его «Истории сексуальности» [ Фуко , 1996, 1998, 2004], в которой формулировалась идея дискурсивного характера сексуальности, становящегося, по мнению автора, основой для социального контроля сексуальности. Под влиянием идей Фуко исследователи сосредоточили свое внимание на проблемах сексуальности в викторианской Англии: так, подробная коллекция документов, связанных с дебатами о сексуальности в поздневикторианской Британии, была опубликована Шейлой Джеффрис [The Sexuality Debates…, 1987].
Превращение сексуальности в объект внимания историков способствовало бурному развитию в 1990–2010-х гг. отрасли гей-лесбийской истории. Одной из знаковых работ этого направления стала книга Джорджа Чонси [ Chauncey , 1995], открывающая мир гомосексуальной субкультуры Нью-Йорка первой трети XX в. и опровергающая суждение о том, что гомосексуалы находились в «чулане» вплоть до 1930-х гг. Чонси доказывал, что еще до этого гомосексуальная культура была вполне видима и развивала разнообразные формы активности вроде балов драг-королев.
Большую роль в дальнейшем переосмыслении того, что из себя должны представлять гендерные исследования, сыграла перформативная теория гендера, предложенная американским философом Джудит Батлер. В работе 1990 г. «Гендерное беспокойство» она отвергла идею «естественного», «додискурсивного» пола и заметила, что, «…возможно, конструкт, именуемый "полом", так же культурно обусловлен, как и гендер; на самом деле, возможно, он всегда уже был гендером, и, соответственно, разграничение между ними оказывается бессмысленным» [ Батлер , 2000, c. 307].
Последователи Батлер сходятся в том, что «… постоянный дуалистический гендерный перформанс тела создаёт иллюзию того, что маскулинность и феминность, так же, как и четко определенные категории биологического пола, являются реальными» [ Кроули, Броуд , 2010, c. 17], а значит, в действительности гендер определяет пол и даже зачастую меняет биологию человека
(хорошим примером тому становятся каноны женского или мужского тела в разные исторические эпохи).
Методологические подходы Фуко и Батлер способствовали пониманию идентичностей как социальных практик, и сформулированная на базе их идей квир-теория позволила поднять вопрос о необходимости их разрушения и реконструирования. Квир-теория обогатила тематику и проблематику гендерных исследований, дав возможность не только изучать гомосексуальность, но и анализировать, как на разных исторических этапах конструировалась и поддерживалась так называемая гетеронормативная матрица. Квир-теория позволяет критически взглянуть и на сами гендерные исследования с точки зрения воспроизведения ими бинарности мышления (мужчины/женщины, маскулинное/феминное).
Внедрение постулатов квир-теории в историческую науку означает исследовательский интерес к историческим феноменам и процессам, нарушавшим бинарные оппозиции в человеческом сознании: это и феномен трансгендерности [Stryker, 2008], и положение интерсексуальных людей [Reis, 2005], и разнообразные ненормативные практики в историческом контексте [Doan, 2013; Mixed Matches…, 2014].
Квир-теория и гендерные исследования сегодня, с одной стороны, являются отделенными друг от друга дисциплинарными полями, а с другой – тесно взаимодействуют, сосуществуя в общем пространстве критики нормативных представлений о поле, сексуальности, теле, репродукции и других концептах. При этом развитие гей-лесбийских и квир-исследований не мешает популярности и актуальности собственно гендерной истории. Ареал распространения «линз гендера» (именно так назвала свою знаменитую работу 1993 г. американский психолог Сандра Бем [ Бем , 2004]) в начале XXI в. очень широк. Влиятельные западные журналы, посвященные гендерной проблематике в исторической науке, фиксируют богатство исследовательских интересов гендерных историков. Это и феномены брака, материнства и отцовства, и пересечение гендера, сексуальности и религии, и медикализированные аспекты исторического функционирования гендеризированной телесности (обрезание, аборты, выкидыши, менструация), и положение женщин коренных народов, и многие другие темы, освещающие жизнь мужчин и женщин от Запада до Африки, Азии и Австралии.
Таким образом, исходя из этапов развития гендерной теории в западной исторической науке, от первых женских исследований в конце 1960-х гг. до изучения ненормативных маскулинностей и феминностей, а также пересечения гендера, расы, класса и сексуальности в 2000–2010-е гг., можно сделать вывод о существенной диверсификации гендерной истории как научного направления.
Список литературы Гендерные аспекты истории Запада: основные дискуссионные поля
- Батлер Дж. Гендерное беспокойство//Антология гендерной теории/сост. и коммент. Е.И. Гаповой и А.Р. Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000. С. 297-346.
- Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. М.: РОССПЭН, 2004. 336 с.
- Бовуар С. де. Второй пол. М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. 832 с.
- Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007. 335 с.
- Де Лауретис Т. Американский Фрейд//Введение в гендерные исследования. Ч. 2: Хрестоматия/под ред. С.В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. С. 23-47.
- Киммел М. Гендерное общество. М.: РОССПЭН, 2006. 464 с.
- Кон И.С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре. М.: АСТ, 2006. 576 с.
- Коннелл Р. Маскулинности и глобализация//Введение в гендерные исследования. Ч. 2: Хрестоматия/под ред. С.В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. С. 851-879.
- Кроули С. Л., Броуд К. Л. Конструирование пола и сексуальностей//Гендерные исследования. 2010. № 20-21. С. 12-50.
- Мид М. Культура и мир детства: избранные произведения. М.: Наука, 1988. 429 с.
- Пушкарева Н. Л. От his-story к her-story. Рождение исторической феминологии//Адам и Ева: Альманах гендерной истории. 2001. № 1. С. 31-42.
- Пушкарева Н. Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и перспективы// Вопросы истории. 1998. № 6. С. 76-89.
- Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа//Введение в гендерные исследования. Ч. 2: Хрестоматия/под ред. С.В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. С. 405-436.
- Стяжкина Е.В. Маскулинность как историческая проблема//Диалог со временем. 2010. № 31. С. 338-372.
- Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера//Хрестоматия феминистских текстов/под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. С. 193-219.
- Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистериум-Касталь, 1996. 448 c.
- Фуко М. Забота о себе. История сексуальности-III. Киев: Дух и Литера, 1998. 288 с.
- Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. СПб.: Академ. проект, 2004. Т.2. 432 c.
- Ярская-Смирнова Е. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе//Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учебное пособие/под ред. И.А. Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. С. 17-48.
- Becoming Visible: Women in European History/еd. by R. Bridenthal, C. Koonz. Boston: Houghton Mifflin, 1977. 592 p.
- Brown K. M. Good Wives, Nasty Wenches and Anxious Patriarchs: Gender, Race and Power in Colonial Virginia. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996. 496 p.
- Burton A. At the Heart of Empire: Indians and the Colonial Encounter in Late Victorian Britain. Berkeley: University of California Press, 1998. 278 p.
- Canning K. Gender History in Practice: Historical Perspectives on Bodies, Class and Citizenship. Ithaca; London: Cornell University Press, 2006. 285 p.
- Chauncey G. Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890-1940. New York: Basic Books, 1995. 496 p.
- Clark E. The Strange History of the American Quadroon: Free Women of Color in the Revolutionary Atlantic World. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2013. 279 p.
- Connell R. Masculinities. Cambridge: Polity Press; Sydney: Allen & Unwin; Berkeley: University of California Press, 1995. 295 p.
- Connell R.W. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Sydney: Allen & Unwin; Cambridge: Polity Press; Stanford: Stanford University Press, 1987. 334 p.
- Cott N.A. What is Gender History? URL: http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/courses/teachers_corner/45821.html (дата обращения: 01.10.2017).
- Davidoff L., Hall C. Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850. Chicago: University of Chicago Press, 1991. 576 p.
- Doan L. Disturbing Practices: History, Sexuality, and Women's Experience of Modern War. Chicago: University of Chicago Press, 2013. 296 p.
- Empires and Boundaries: Rethinking Race, Class, and Gender in Colonial Settings/ed. by H. Fischer-Tiné and S. Gehrmann. London: Routledge, 2008. 254 p.
- Fischer K. Suspect Relations: Sex, Race, and Resistance in Colonial North Carolina. Ithaca: Cornell University Press, 2002. 265 p.
- Gender, Sexuality and Colonial Modernities/ed. by A. Burton. New York and London: Routledge, 1999. 224 p.
- Ghosh D. Sex and the Family in Colonial India: The Making of Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 290 p.
- Heap C. Slumming: Sexual and Racial Encounters in American Nightlife, 1885-1940. Chicago: University of Chicago Press, 2009. 420 p.
- Higginbotham E. B. African-American Women's History and the Metalanguage of Race//Signs. 1992. № 17/2. P. 251-274.
- Interconnections: Gender and Race in American History/ed. by C. Faulkner and A.M. Parker. Rochester, New York: University of Rochester Press, 2012. 292 pp.
- Jones J. Labor of Love, Labor of Sorrow: Black Women, Work, and the Family from Slavery to the Present. New York: Basic Books, 1985. 480 p.
- Kessler-Harris A. Out to Work: A History of Wage-Earning Women in the United States. New York: Oxford University Press, 1982. 414 p.
- Krebs P.M. Gender, Race, and the Writing of Empire: Public Discourse and the Boer War. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 220 p.
- Laqueur T. W. Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge: Harvard University Press, 1990. 313 p.
- Legg S. Prostitution and the Ends of Empire: Scale, Governmentalities, and Interwar India. Durham: Duke University Press, 2014. 281 p.
- Liddington J., Norris J. One Hand Tied Behind Us: The Rise of the Women's Suffrage Movement. London: Virago, 1978. 304 p.
- Magubane Z. Bringing the Empire Home: Race, Class, and Gender in Britain and Colonial South Africa. Chicago: University of Chicago Press, 2003. 216 p.
- Marcus S. The Other Victorians: A Study of Sexuality and Pornography in Mid-Nineteenth-Century England. New York: Basic Books, 1966. 292 p.
- Mixed Matches: Transgressive Unions in Germany from the Reformation to the Enlightenment/ed. by D.M. Luebke and M. Lindemann. New York: Berghahn Books, 2014. 246 p.
- Pascoe P. What Comes Naturally: Miscegenation Law and the Making of Race in America. New York: Oxford University Press, 2009. 416 p.
- Reis E. Impossible Hermaphrodites: Intersex in America, 1620-1960//Journal of American History. 2005. Vol. 92. Is. 2. 1 September. P. 411-441.
- Roberts D. Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty. New York: Vintage Books, 1997. 384 p.
- Rose S.O. What is Gender History? Cambridge: Polity Press, 2010. 157 p.
- Rowbotham S. Hidden from History. 300 Years of Women's Oppression and the Fight Against It. London: Pluto Press, 1975. 182 p.
- Stryker S. Transgender History. Berkeley: Seal Press, 2008. 208 p.
- The Sexuality Debates/ed. by Sh. Jeffreys. New York: Routledge & K. Paul, 1987. 632 p.
- The Transgender Studies Reader//ed. by S. Stryker and S. Whittle. New York: Routledge, 2006. 758 p.
- Tosh J. A Man's Place: Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England. New Haven; London: Yale University Press, 1999. 272 p.
- Tosh J. Hegemonic Masculinity and the History of Gender//Masculinities in Politics and War: Gendering Modern History/ed. by S. Dudink, K. Hagemann, J. Tosh. Manchester University Press, 2004. P. 41-58.
- Tosh J. Manliness and Masculinities in Nineteenth-century Britain: Essays on Gender, Family, and Empire. Pearson Education, 2005. 232 p.
- Unequal Sisters: A Multicultural Reader in U.S. Women's History/еd. by V. L. Ruiz and E. C. DuBois. New York: Routledge, 2008. 638 p.
- Visram R. Asians in Britain: 400 Years of History. London: Pluto Press, 2002. 504 p.
- Welter B. The Cult of True Womanhood: 1820-1860//American Quarterly. 1966. Vol. 18, № 2, Part 1. P. 151-174.
- White D. G. Ar'n't I a Woman? Female Slaves in the Plantation South. New York: W. W. Norton, 1985. 256 p.
- Wilson K. Island Race: Englishness, Empire and Gender in the Eighteenth Century. London; New York, Routledge, 2003. 282 p.