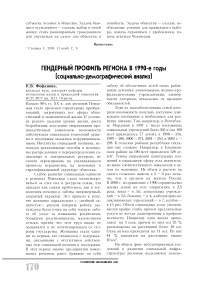Гендерный профиль региона в 1990-е годы (социально-демографический анализ)
Автор: Фофанова К.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Социология и социальная работа. Ячейки общества
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720359
IDR: 14720359
Текст статьи Гендерный профиль региона в 1990-е годы (социально-демографический анализ)
Слабое развитие социальных сервисов в регионах Поволжья стало компенсироваться за счет сил и ресурсов семьи, что придало как самим проблемам, так и технологиям помощи и заботы интровертный, закрыIтый характер. Это привело к тому, что женщина параллельно с «двойной занятостью», риском потерять работу, вынуждена была взять на себя полную заботу об уходе за пожилыми родителями, больными родственниками, малолетними детьми, притом что этот труд никак не оценивался и не легитимировался со стороны государства. Женщины стали одними из первых, кто столкнулся с издержками, связанными с отсутствием действенных мер социальной помощи и поддержки. В этот период многие предприятия поволжских регионов, ранее бравшие на себя заботу об обеспечении детей своих работников детскими дошкольными, медико-профилактическими учреждениями, пионерскими лагерями, отказались от прежних обязанностей.
Дети из малообеспеченных семей потеряли возможность получать доступное дошкольное воспитание и необходимое для развития питание. Так, например, в Республике Мордовия в 1997 г. число постоянных дошкольных учреждений было 365 и (на 100 мест приходилось 77 детей), в 1998— 316, 1999 - 286, 2000 - 271, 2001 - 253, в 2002 г. -228. В сельских районах республики ситуация еще сложнее. Например, в Ельников-ском районе на 100 мест приходится 128 де-тей1. Темпы сокращения капитальных вложений в социальную сферу села значительно выше соответствующего показателя в целом по экономике. Их объем в расчете на одного сельского жителя в 5 - 6 раз меньше, чем в среднем на жителя России. В 2000 г. по сравнению с 1990 строительство жилых домов на селе сократилось в 2,5 раза, школ - в 3,6, дошкольных учреждений - в 3,5, больниц - в 4, амбулаторно-поликлинических учреждений - в 7, клубов -в 13 раз. Объем социальных услуг увеличивается крайне слабо, причем предлагаемые услуги не всегда адаптированы к профилю местности. Например одна школа приходится на 3 села, причем из этих сел 23 % расположены на расстоянии более 10 км. Одна аптека приходится на 11 сел. Из них 44 % находятся на расстоянии свыше 10 км2.
На общем фоне неблагоприятных тенденций в развитии социальной инфраструктуры регионов выделяются измене- ния в социально-демографической структуре населения. В регионах Поволжья обозначились тенденции, которые в той или иной мере свойственны общей ситуации в России. Начиная с 1989 г. идет последовательное снижение численности населения примерно на 1 % в год с некоторой стабилизацией в 1995 — 1997 г. Не является исключением Республика Мордовия. На 1 января 2003 г. в республике проживало 8996 тыс. чел., отношение городского населения к сельскому составляло 60,1 % к 39,9 %.
Перепись 2002 г. показала характерное для населения России значительное превышение численности женщин над численностью мужчин. 10 067 тыс. чел. против 9 594 тыс. чел. в 1989 г. В соответствии с результатами переписи 2002 г. женская часть населения является преобладающей в 84 субъектах Российской Федерации. Данная тенденция характерна и для Республики Мордовия. Анализ половозрастной структуры населения Мордовии показывает, что в возрастной группе от 0 до 15 лет доля мужчин к доле женщин в городской и сельской местности составляет 20 % к 18 %, но начиная с 20 —24 лет численность мужчин резко уменьшается, в возрастной группе с 55 лет доля женщин составляет 22 % к 10 % мужчин этого же возраста. В сельской местности наблюдается еще больший разрыв: 40 % к 15 %. Параллельно данным диспропорциям наблюдается тенденция увеличения ожидаемой продолжительности жизни женщин, что не характерно мужчин. Можно предположить, что данные изменения вызовут сдвиги в биографической структуре и жизненном курсе женщины, что потребует пересмотра ряда социальных стандартов и нормативов в сфере пенсионного, трудового, семейного законодательства.
Упомянутые социально-демографические данные по половозрастному составу населения указывают на важную демографическую составляющую — феминизацию старения. Существуют различные мнения относительно ее последствий. Очевидно, что первостепенное значение приобретают выработка и внедрение гендерно чувствительных механизмов для решения вопросов, связанных с геронтологическим на- правлением в социальной политике, которая должна ориентироваться на расширение спектра медико-социальных и социально-психологических услуг по снижению депривационных последствий от одиночества женщин в пожилом возрасте.
Социально-экономические изменения 90-х гг. XX в. ухудшили и без того далеко не позитивные процессы брачности и раз-водимости. Брачная структура населения Республики Мордовия характеризуется следующими данными: самый высокий показатель никогда не состоявших в браке среди женщин и мужчин приходится на возраст 16 —19 лет —88,3 и 97,7 %; самый высокий процент состоящих в браке — приходится на женщин в возрасте 30 — 34 года —83,4 и мужчин 40 —49 лет —85,3; вдовые женщины в возрасте 70 лет и более составляют 65,7%, в то время как мужчин вдовцов в данной возрастной группе 23,2 %; самая высокая доля разведенных женщин — 9,3 %, в возрастных группах 40 —49 и 50 —59 лет, разведенных мужчин —6,8 % в группе 30 —34 года. В сравнении с мужчинами женщины чаще имеют статус разведенных и вдовых, что связано с низкой продолжительностью жизни мужчин.
С 1991 г. повышается процент распада семей. Если количество зарегистрированных браков по стране за период с 1990 по 2000 г. снизилось на 68 %, то число разводов выросло с 42 до 69 %3. В Республике Мордовия в 1992 г. на 1 000 чел. населения приходилось 8,8 брака, в 2001 г. — 6,2. Снижение числа браков наблюдается из года в год. Но тем не менее коэффициент брачности в республике остается сравнительно высоким среди всех регионов Приволжского округа.
Согласно статистическим данным, в последнее десятилетие произошло увеличение возраста вступления в брак во всех регионах Поволжья. Эту тенденцию отражает тснизилось и динамика возраста рождения первого ребенка. Еще одной важной чертой в сфере деторождения является высокий процент рождения детей вне брака. Распределение семей по типам в Республике Мордовия следующее: брачная пара с детьми и без детей —67,6 %, брачная пара с детьми и без детей и прочими родственни-
СОЦНДЛЬНДЯРДБ01ДИС0ЦН0А0ТНЯ
ками —11,7, матери с детьми —10,8, отцы с детьми —0,8, матери (отцы, с одним из родителей матери (отца)) — 1,7, прочие семьи —3,7 %. Таким образом, эскалация негативных социально-экономических эффектов сказывается на брачном поведении, что проявляется в увеличении сложных видов семей. Среди основных изменений в демографической структуре семьи можно назвать уменьшение среднего числа детей. Ситуация с рождаемостью отражает происшедшие перемены в репродуктивном поведении российского населения. А.Е. Суринов отмечает, «еще на рубеже 1980 —1990-х гг., при общей тенденции к снижению уровня рождаемости, в репродуктивных ориентациях населения двухдетная модель семьи превалировала над однодетной, о чем свидетельствует и значение показателя суммарной рождаемости — около двух детей в среднем на одну женщину. В последующие годы происходило значительное снижение рождаемости, и в настоящее время ее суммарный показатель практически вдвое ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения: 2,14 —2,15 родившихся детей в среднем на одну женщину в течение жизни4. Размер семьи городских и сельских жителей почти одинаков.
Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Мордовия в 2001 г. на все население составлял 1,09, по прогнозам, к 2020 г. он поднимается до 1,12. В республике с 1989 — 1990 гг. сокращение рождаемости приобрело устойчивый характер. Если в 1990 г. родилось 6 230 женщин и 6 680 мужчин, то спустя 12 лет этот показатель уменьшился в 1,8 раза. Социально-исторический анализ в области семьи и семейной политики отражает тот факт, что структура брачности и разводи-мости трансформировалась под влиянием последствий войны, изменений в семейном законодательстве, социально-экономических перемен в жизни страны. Показатели рождаемости и числа браков позволяют сделать вывод, что в регионах Поволжья реализуется в принципе мировая тенденция на малодетность, на воспитание и рождение одного ребенка, прослеживается известная статистическая корреляция «чем старше популяция по среднему возрасту, тем выше процент городского насе- ления (агломерация), тем ниже рождаемость, брачность, выше процент разводов, возраст вступления в брак и появления первого ребенка»5.
В последнее десятилетие в регионах Поволжья улучшились некоторые показатели, связанные с репродуктивным здоровьем населения. Статистические данные отражают снижение уровня материнской смертности, но рост бездетных браков. По свидетельствам врачей, в настоящее время в России каждая 7 —8-я пара сталкивается с проблемой бездетности. Несмотря на то что в цивилизованном обществе гарантируется поддержание права каждого человека на воспроизводство, в пространстве российской социальной политики данное право находится в «зоне молчания». Оно не обеспечивается реальными медико-социальными действиями и мерами во имя настоящих и будущих поколений.
Статистически рассчитано, что демографическое состояние регионов характеризуется прежде всего такими показателями, как рождаемость и смертность населения, разность между которыми составляет его естественный прирост. Кроме того, на динамику численности жителей регионов влияет сальдо внешней миграции. По данным Госкомстата РМ, с 1992 по 1996 г. в Республике Мордовия сальдо миграции было положительным и составляло 2,2 тыс. чел. Ускорение процесса депопуляции в 1999 —2001 гг. стало результатом одновременного увеличения естественной убыли населения и заметного уменьшения его миграционного прироста. С 1997 г. количество выбывшего из республики населения стало превышать количество прибывшего. Причем наблюдается гендерное смещение в сторону женщин: в 2001 г. из республики выбыли 7 032 женщины, что составило 57 % от общего числа выбывших и 5 406 мужчин (43 %). В последнее десятилетие в регионах Поволжья наметилась тенденция (характерная и для Мордовии) высокой трудовой миграции мужчин. Территориальная мобильность в целях занятости —распространенное явление во всем мире, но российская специфика отягощается отсутствием у большинства населения возможности иметь собственный транспорт, дороговизной и недоступностью рынка жилья, что не позволяет всей семье поменять место жительства. Это приводит к формированию феномена отходничества мужчин на заработки в столичные города. В такой ситуации на женщину ложится еще больше ответственности и нагрузок, связанных с ведением домашнего хозяйства, воспитанием детей, а мужчина в силу материальных причин вынужден сознательно исключать себя из процесса воспитания детей. Имеющиеся официальные данные не отражают всех скрытых рисков, которые несет в себе данный феномен в отношении как благополучия семьи, так и региона в целом.
Социально-демографическое развитие региона находится в зависимости от уровня смертности. Этот показатель многое может сказать о степени безопасности общества и его социальности. В 1999 г. в среднем по России число умерших по сравнению с 1998 г. возросло на 7,8 %, коэффициент смертности повысился с 13,6 до 14,7, а в первой половине 2000 г. он достиг отметки 16,1. В Республике Мордовия в 2002 г. коэффициент смертности был равен 16,5, в результате естественная убыль населения составила -8,6 на 1000 чел. населения. При сохранении сложившегося в последние годы половозрастного уровня смертности 40 % современных юношей, достигших 16 лет, не доживут до 60 лет. Согласно прогнозам, ожидаемая продолжительность жизни в последующие десятилетия в России среди населения мужского пола будет продолжать снижаться Увеличение смертности в большей степени затронет мужчин среднего возраста по сравнению с женщинами и традиционно уязвимыми категориями населения, такими как дети и пожилые люди.
Повышение уровня смертности приводит к снижению средней продолжительности жизни. Рекордное падение этого показателя наблюдалось в 1994 г., когда он составил в среднем по России 64 года, в том числе 57 лет у мужчин и 71 год у женщин в сельской местности и 59 лет у мужчин и 72 года у женщин в городе. В Республике Мордовия в 1994 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин была 60 лет, а у женщин —73 года, этот же уровень повторился и в 2000 г. В 2001 г. он несколько повысился и составил 75
лет —для женщин, проживающих в городе, 74 года —для проживающих в сельской местности, 61 год —для мужчин, проживающих в городе, и 60 лет —в сельской мест-ности6. Столь существенные различия в продолжительности жизни мужчин и женщин усиливают гендерный разрыв, сказывающийся в диспропорции уровня старения: доля мужчин в возрасти 60 лет и старше составляет 12 %, доля женщин — 21 %. В данном случае речь идет не о показателе ожидаемой продолжительности здоровой жизни, который в отечественной статистике не исрользуется. По прогнозам специалистов российский мужчина, достигший 60 лет, при сохранении современного половозрастного уровня смертности, может прожить еще около 14 лет, т. е. практически столько же, сколько и 100 лет назад (в конце XIX в.), у женщин данный показатель повысится всего на 4,5 года. Социальные исследования показывают, что в большинстве стран мира продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин, находящихся в одинаковом социальном статусе.
В настоящее время выявились тенденции, связанные со специфическими проблемами здоровья мужчин и женщин. В большинстве случаев причиной смертности мужчин выступают сердечно-сосудистые болезни, заболевания системы кровообращения, несчастные случаи, в то время как причинами смертности женщин являются аутоиммунные и скелетно-мышечные болезни, а также депрессии. В мировой практике 1-е место среди причин смертности занимают болезни кровообращения (гипертоническая, ишемическая и т. д.), 2-е новообразования. Данное распределение было характерно и для России до 1994 г. Последнее же десятилетие создало не имеющую аналогов структуру причин смертности, в которой на 2-е место, после традиционных для всех развитых стран сердечно-сосудистых заболеваний, вышла смертность от неестественных причин: несчастных случаев, отравлений и травм7.
Людские потери, которые несет российское общество от неестественных причин, огромны. Появившиеся в 90-е гг. XX в. исследования показали, что во многом причины мужской смертности обусловлены действующей системой здравоохранения, не учитывающей особенностей пола и возраста, того, что женщины и мужчины по-разному в различные возрастные периоды подвергаются тем или иным заболеваниям. Так, статистические данные свидетельствуют о том, что сердечно-сосудистые болезни диагностируются у женщин в более позднем возрасте, нежели у мужчин; такие болезни, как анемия, скелетно-мускульные нарушения, наиболее свойственны женщинам, чем мужчинам. Не учитывается системой здравоохранения и то, что ряд болезней у женщин связан с беременностью, детородной функцией. Просматривающиеся тенденции должны служить основой для выработки гендерно чувствительной системы медико-социального контроля и ранней диагностики.
Показателем ухудшения здоровья населения является и растущая среди населения инвалидизация. Число граждан, получивших инвалидность, в 1999 г. по сравнению с 1990 г. увеличилось в 1,5 раза, число детей-инвалидов —почти в 3,8 раза. Если сравнить коэффициент инвалидности, то рост будет соответственно в 1,4 и 4,7 раза.
Показатели инвалидизации населения связаны с показателями производственного травматизма, распространенного в основном среди мужской когорты. Одной из причин этого выступают гендерные стереотипы, маркирующие мужское и женское предназначение, насаждаемые образы «мужественности» и «силы», меры позитивной дискриминации в отношении женщин, предлагаемые социальной политикой (запрещение работы на вредных производствах, в ночные смены, запрет на некоторые виды профессиональной деятельности). Мужчины вынуждены занимать наиболее опасные рабочие места и выполнять более вредные виды работ. В свою очередь, социальная политика не предлагает никаких мер по снижению производственно-трудовых рисков. Наоборот, общественное мнение, структура социальных институтов провоцируют мужчину на рискованное поведение, посредством которого он подтверждает свою сопричастность к «мужественности» и соответствие модели «настоящего мужчины». Эффектом от мер позитивной дискриминации и гендерно деп- ривированных трудовых стандартов стал высокий уровень профессиональной заболеваемости и смертности среди мужчин трудоспособного возраста. Увеличение смертности мужчин социально и физически активного возраста приводит к существенным последствиям, отражающимся как на структуре семьи, так и на уровне благосостояния женщин и детей.
В структуру причин смертности, обозначаемых как «несчастные случаи, отравления и травмыI» входят самоубийства. Ежегодно от суицида в России исчезает население, равное по численности среднему по размеру городу. За время реформ число самоубийств увеличилось в 1,5 раза. Согласно официальным данным, жители российского села в 1,5 раза чаще сводят счеты с жизнью, чем горожане, причем большинство из них мужчины. Соотношение случаев самоубийств среди мужчин и женщин в 1990 г. составляло 1 : 4, в 1996 г.— 5,6 : 1. Количественный показатель самоубийств зависит от возраста: у мужчин он достигает максимума к 50 —ти годам, а затем снижается; у женщин же, наоборот, суицидальное поведение возрастает по мере увеличения возраста.
Возникает вопрос: почему период социально-экономических преобразований в большей степени спровоцировал эскалацию аутоагрессии мужчин, начинающейся от курения и заканчивающейся самоубийствами? Многочисленные исследования, подкрепленные статистическими данными, показывают, что мужчины и женщины по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Это касается как времени возникновения негативных эффектов, так и их видов. Отсутствие превентивных мер социально-психологического характера привело к возникновению негативных эффектов, усугубляемых существующим гендерным порядком. Можно полагать, что декларирование полной занятости и общественноправовое порицание тунеядства в советский период привели к тому, что в период начавшихся трансформаций лишение работы в сознании человека воспринималось как отклонение от нормы, невыполнение предначертанной от рождения роли «кормильца». Транквилизаторами бегства от реальности для многих стали аутоагрес- сивные формы поведения, ставшие характерными как для мужчин, так и женщин. Поэтому актуализируется вопрос о проведении продуманной социальной политики, включающей превентивные и реабилитационные меры, которые наиболее приближены к нуждам и потребностям региона.
Зарубежная исследовательская группа, осуществляющая проект по анализу изменения уровня и качества жизни в странах с переходной экономикой, в том числе в России, пришла к выводу, что «кризис уровня смертности» является продуктом прежней коммунистической идеологии, рассматривавшей состояние здоровья населения как результат деятельности государственной системы здравоохране-ния»8. Мы полностью согласны с этим выводом, ибо анализ социальной политики показывает, что ни в советский период, ни в период трансформаций не проводилось комплексных действий, направленных на формирование ценности здоровья и ценности качественной жизни. В конце 1992 г. в нашей стране впервые был опубликован доклад «О состоянии здоровья населения в Российской Федерации в 1991 г.», только с 1993 г. в соответствии с постановлением правительства становится обязательной подготовка ежегодных докладов.
В сложившейся ситуации социальная политика не должна быть безучастной.
В настоящее время в мире существуют различные модели формирования навыков здорового образа жизни, своевременного выявления и раннего предупреждения ситуаций риска. Отечественными исследователями П.И. Сидоровым, В.Т. Ганжиным в 90-е гг. XX в. была предложена цельная реалистичная концепция по укреплению общественного здоровья, опирающаяся на системообразующие принципы социальной политики: социальной активности, информированности, гуманности, научности, системности, раннего предупреждения, дифференцированности, программно-целевого планирования»9. Данные принципы формируют методологическую основу политики, ориентированную не на развитие экономических показателей, а на благоговейное отношение к каждой человеческой жизни.
К сожалению, не все факторы, формирующие профиль регионального социума, подвергаются научной рефлексии, результаты которой могли бы служить целям социального развития региона, потребностям и интересам мужчины и женщины. Между тем российский опыт показает, что игнорирование половозрастных, территориальных, культурных, гендерных особенностей не удается компенсировать ни универсальными подходами, ни экономическими вложениями.
Список литературы Гендерный профиль региона в 1990-е годы (социально-демографический анализ)
- Социально-экономическое положение Республики Мордовия: январь -октябрь 2003 г, Саранск, 2003. С. 106
- Приоритеты социальной политики в Поволжье//Аналитический вестник. 2001. № 21 (152)
- Российский статистический ежегодник. М., 2001. С. 50
- Суринов А.Е. Социально-экономическая ситуация в 1992 2000 гг. воздействие на население//Мир России. 2001. № 2. С. 30
- Акопян А.С. Демография и политика//Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 42
- Женщины и мужчины Республики Мордовия: Крат. стат. сб. Саранск. 2002
- Орлова И.Б. Демографическое благополучие России. М., 2001. С. 50
- Пачи П. Тендерные проблемы в странах с переходной экономикой. М., 2003. С. XVII
- Сидоров П.И., Ганжин В.Т. Общественное здоровье и социальные недуги. М., б.г. С. 252