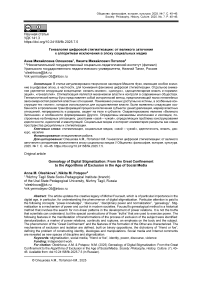Генеалогия цифровой стигматизации: от великого заточения к алгоритмам исключения в эпоху социальных медиа
Автор: Олешкова А.М., Потапов Н.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье актуализировано творческое наследие Мишеля Фуко, имеющее особое значение в цифровую эпоху, в частности, для понимания феномена цифровой стигматизации. Отдельное внимание уделяется следующим концепциям: «властьзнание», «дискурс», «дисциплинарная власть и нормализация», «генеалогия». Стигматизация является механизмом власти и контроля в современных обществах. Генеалогический метод Фуко представляет собой исторический метод, предполагающий поиск нелинейных закономерностей развития властных отношений. Пониманию ученых доступны не истины, а особенные конструкции тех «истин», которые используются для осуществления власти. Были выявлены следующие особенности в проявлении трансформаций процесса исключения субъекта: денатурализация, маркер властных отношений, непрерывность и разрывы, акцент на теле и субъекте. Охарактеризовано явление «Великого Заточения» и особенности формирования Другого. Определены механизмы исключения и изоляции, построенные на бинарных оппозициях, дихотомии «свой – чужой», определяющих проблему конструирования идентичности, идеологий и манипуляций. Социальные медиа и интернеткомментарии раскрыты как новые пространства дисциплины и стигматизации.
Стигматизация, социальные медиа, «свой – чужой», идентичность, власть, дискурс, насилие
Короткий адрес: https://sciup.org/149148783
IDR: 149148783 | УДК: 141.3 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.5
Текст научной статьи Генеалогия цифровой стигматизации: от великого заточения к алгоритмам исключения в эпоху социальных медиа
Актуальность философии Мишеля Фуко и других авторов, которые осмысливали трансформации в XX в. в рамках постмодернизма, постструктурализма, Франкфуртской школы, не просто сохраняется, но многократно умножается в контексте новых вызовов и преобразований технологий в XXI в., которые нельзя рассматривать как нейтральное явление. Философские теории позволяют представить концептуальный аппарат для анализа новой конфигурации властных отношений, социальных структур, идентичностей и фактической «пересборки» публичной сферы, в которой важную роль играют социальные медиа и, прежде всего, феномен интернет-коммента-рия. В условиях стремительной цифровизации, когда жизнь людей в значительной степени переместилась в онлайн-пространство, проблемы механизмов социального контроля и исключения приобретают новое звучание.
В современной науке уделяется внимание проблеме цифровизации и технологиям в контексте философского знания. Исследования затрагивают вопросы компьютерных программ как части творческого сообщества (Масланов, 2022), богословские и философские корни цифровизации (Катасонов, 2019).
Авторы обращают внимание на понятие «культура отмены» (Топилина, 2023), проблему националистического дискурса, в том числе в интернете (Жусупова, Калашникова, 2023), применяют метод критического дискурс-анализа к интернет-комментариям (Линченко и др., 2025).
Работы, осмысливающие вклад Мишеля Фуко в развитие гуманитарного знания, акцентируют роль философа в становлении учения о дискурсе (Шилина, Шевченко, 2024), в актуализации проблем трансформации власти (Римский и др., 2025), идентичности (Белов, 2025), нормы (Бурнашев, Аллаярова, 2025).
Из данного обзора можно сделать два важных вывода, подтверждающих актуальность темы, которая затрагивает разнообразные аспекты исследования, и необходимость научной кооперации философии с другими областями социально-гуманитарного знания.
Цель исследования – проанализировать механизмы цифровой стигматизации в эпоху социальных медиа, используя генеалогический подход М. Фуко. Задачи: определить ключевые концепты Фуко как методологическую основу анализа стигматизации; рассмотреть феномен «Великого Заточения» как исторический прецедент исключения и его значение для понимания современных механизмов цифровой изоляции; выявить особенности стигматизации в онлайн-про-странстве; охарактеризовать социальные медиа и интернет-комментарии как новые пространства дисциплины, контроля и цифровой стигматизации.
Новизна исследования: предпринята попытка комплексного применения генеалогического метода Мишеля Фуко для анализа цифровой стигматизации. Теоретическая значимость заключается в расширении области применения концептуального аппарата Фуко к анализу современных социокультурных процессов. Практическая значимость: исследование может быть включено в учебные курсы по философии, политологии, культурологии, социологии, а также стать основой для разработки рекомендаций, способствующих повышению медиаграмотности современного интернет-пользователя.
Один из важных концептов Фуко, позволяющий осмыслить роль технологий в процессе эволюции, – «власть-знание». Согласно этому концепту, знание не является какой-то нейтральной совокупностью истин, оно всегда переплетено с властью. «Знание-власть» постепенно превращается в «истину-знание» (Фуко, 2016: 137). Таким образом, формируются и легитимируются вполне определенные практики и нормы. Фуко показывает, как складываются правила пенитенциарной системы, психиатрии и криминологии. Эти области знаний не являлись нейтральными по отношению к объекту познания. Представления о преступности, безумии, нормах стали основой «знаний» о тех, кто не вписывается в общепринятые рамки. Медицинский дискурс представляет собой модель, метафору, позволяющую спроецировать положение «больного» на общество в целом. Медицинское пространство может совпадать с социальным, пересекать его и даже полностью погружаться в него (Фуко, 2010а: 50). Любой дискурс является постановкой вопроса о власти и объектом борьбы за нее, причем в политическом смысле слова (Фуко, 2004: 233). Особый медицинский взгляд фактически создает «болезнь» и сам «объект болезни», что позволяет медикам производить диагностику, классификацию, осуществлять контроль и управление телами.
В работе «История безумия в классическую эпоху» Фуко описывает феномен «Великого Заточения» (Фуко, 2010б: 59) – исторического явления, фиксирующего период XVII – XVIII вв., когда происходил процесс массового исключения людей, считающихся нежелательными. В специальных учреждениях оказывались те, кто считался ненормальными. В этом ряду были не только больные, но и, например, такие категории, как бедняки, бродяги, сироты, безработные, больные венерическими заболеваниями, «безумцы». Процедура стигматизации этих людей заключалась не только в стремлении их исключить, обезопасив другую часть общества, но представляла собой попытку контроля и «очищения» от тех, кто не соответствовал новым представлениям о норме и рациональности.
В этой связи важна концепция «дискурса», которая обуславливает значимость не только того, что сказано и сделано, но акцентирует внимание на систематическом способе формирования объектов и практик. В определенную эпоху то, что помыслено как истина, продолжает действовать как непреложное правило, которое не воспринимается как контекстуальное. Хотя истина – это процесс, который каждый раз «здесь и теперь» должен обосновывать себя (Фуко, 2004: 19). Дихотомия «норма – ненорма» определяет тех, кого следует опасаться, и то, как с ними нужно поступать, в том числе посредством методов принудительного лечения и изоляции.
Бинарные оппозиции и дихотомия «свой – чужой» являются фундаментальным механизмом исключения и изоляции субъекта. Они определяют то, как формируются идентичности, распространяются идеологии и осуществляются манипулятивные технологии.
В современном обществе культура отмены и определенные онлайн-сообщества формируют доминирующие дискурсы о том, что можно классифицировать как приемлемое, а что находится за рамками. Трактовки нормы в этой связи распространяются на слова, поступки, идентичности. Одним из следствий этого вопроса является дискурс вражды и дискурс оскорбления, проблема насилия, а также политические, правовые и этические измерения данных вопросов. В частности, конструирование идентичности определяется через противопоставление тем, кем мы не являемся или не хотим являться. Например, дихотомия «прогрессивные либералы» (свои) против «консервато-ров/трампистов» (чужие), или наоборот. Подобные противопоставления выходят на актуальную тему патриотизма, ставшую важной для разных стран и, как следствие, противопоставления по линии «патриот – непатриот», «патриот – либерал» и др.
Понятие «жертва» также является важным для формирования идентичности: невинная жертва (свои), агрессор, обидчик (чужие). Так, движения #MeToo или #BlackLivesMatter формируют идентичность «жертвы» (жертва сексуального насилия, расизма). Вокруг столь значимых тем сплачиваются люди, идентичность становится коллективной. Изначально политические темы в цифровом пространстве становятся квазиполитическими, затрагивая вопросы иных сфер (спорта, религии, др.) и повседневные проблемы. Осуждение в цифровом пространстве может приводить как к исключению из онлайн-сообщества, так и потере работы, другому ущербу репутации в реальном мире. В этой связи дискуссия о том, какой мир реальнее по социальным последствиям для субъекта (онлайн или офлайн), является дискуссионным.
Помимо культуры отмены, можно привести в пример действие эхо-камер, проблему фейк-ньюс, дезинформацию, манипуляцию и идеологии как маркеры истины, идентичности, «правды», которой обладает тот или иной субъект.
В «Надзирать и наказывать» Фуко описывает феномен дисциплинарной власти. В отличие от власти, построенной на открытом насилии, власть, по Фуко, децентрализована и действует через постоянно функционирующие механизмы ранжирования, нормализации, а также надзора. Образ паноптикона обуславливает такое состояние «заключенного», при котором он постоянно ощущает наблюдение за собой, поэтому проявляет самодисциплину и вынужден заниматься са-моцензурой.
Фуко задается важными вопросами: как именно действуют эти «машины наблюдения», как организуется процесс коммуникации и реализуется непрерывность власти. Важно, что философ использует понятие «сеть» (Фуко, 1999: 253) в обозначении важности коммуникации в условиях паноптикона.
В современном обществе действует фактически цифровой паноптикон. Присутствует постоянное отслеживание субъекта через сервисы геолокации, сбора статистики, историю поиска, репосты, лайки, интернет-комментарии. Такие «цифровые следы» обуславливают соответствующее поведение субъекта. Помимо социально-политического и правового измерения темы, с учетом которого следует знать законодательство, регламентирующее высказывания в Сети, можно отметить культурный и коммерческий аспекты. Социальные платформы и приложения действуют на основе алгоритмов, которые поощряют конкретные паттерны поведения, определяя тренды в определенный период времени.
В эссе «Ницше, генеалогия и история» Фуко раскрывает генеалогический метод, заимствованный у Фридриха Ницше1. Генеалогия не может сводиться к поиску единой истины, которая стала победой закономерных естественных сил прогресса или следствием неизбежности судьбы. Результатом может быть совокупность случайностей, временный характер явлений, смещение и борьба смыслов. Важную роль в генеалогии играют властные отношения. Так, возникновение тюрьмы – не прямое следствие развития наказания, а результат сложного переплетения идей, власти, практик дисциплинирования тел и душ, технологий. Публичные казни сменились тюремным заключением. Но так произошло не во всех культурах и не одновременно. Торжество демократии не означает от- мену смертной казни и невозможность вернуться к иным практикам наказания. Кроме того, современные цифровые примеры показывают, что они не являются совершенно новыми явлениями, а имеют корни в более ранних исторических практиках. Так, культуре отмены предшествовали клеймение, позорные столбы, остракизм, кампании в желтой прессе. Постоянный цифровой надзор, сбор данных можно проследить до более ранних практик государственного контроля и статистики: переписи, тейлоризм, досье в криминалистике и психиатрии.
Социальные медиа и интернет-комментарии – это не просто совокупность разных мнений, но и инструмент социального контроля и стигматизации. Можно выделить следующие особенности комментирования в Сети, позволяющие посмотреть на этот относительно новый тип высказывания с точки зрения проблемы стигматизации и «заточения» «говорящего субъекта». Интер-нет-комментарии дают возможность оперативного публичного обсуждения. Массово и мгновенно выражается неодобрение или одобрение субъекта. Такую особенность можно назвать «цифровым трибуналом», в котором каждый говорящий субъект может стать судьёй или жертвой. Можно сказать, что, с точки зрения Фуко, это новый вид публичной казни, в которой важной оказывается зрелищность осуждения. Это уже не власть сюзерена, а массовое проявление «правосудия толпы». Дисциплинарная власть, осуществляемая посредством доминирующего дискурса, «рассеяна» и реализуется теперь самими субъектами друг над другом. Фуко описывает постоянное расширение и одновременно дисперсию дискурсивного пространства (Фуко, 1996: 131).
Фактически субъект выставляется на всеобщее обозрение как нарушитель нормы. Коллективное клеймление усиливает стигматизацию. Индивидуальная стигма (по Гоффману) трансформируется в коллективное «клеймо», которое трудно устранить. Можно сказать, что «коллективное клеймление» в Сети представляет собой пример микрофизики власти (Фуко, 1999: 41), диапазон действия которой позволяет оказывать влияние не только на онлайн-, но и офлайн-реальность. Вирусный характер распространения информации, интернет-мемы, которые позволяют ёмко представить транслируемый образ, закрепляют групповые ярлыки, являющиеся системообразующей частью цифрового образа говорящего субъекта, как правило, упрощенного негативного образа: «ватник», «либераха», «зоошиза», «антиваксер», «православнутый» и др. Ярлык определяет важную часть «знания» о субъекте, которое, по Фуко, всегда неразрывно связано с властью. При закреплении дискурса, обретении им статуса «истины» в публичной сфере, говорящему субъекту становится сложно его опровергнуть или изменить. В цифровом пространстве формируется своеобразный «архив» ‒ цифровой след комментариев, комментариев на комментарии, публикаций, мемов, который постоянно воспроизводится.
Другие современные примеры в цифровой среде касаются рейтингов, в которых каждый субъект может фигурировать в соответствии с разными запросами, основаниями и критериями. Например, алгоритмы собирают большие данные о финансовом поведении человека. Низкий кредитный рейтинг, скоринг, алгоритмическое профилирование рисков может привести к стигматизации субъекта, маркируя его как «ненадёжного», «недостойного», «недостаточно лояльного», «адекватного» и т. д.
Алгоритмы можно трактовать как воплощение фукольдианской «власти-знания», при которой происходит не только обработка больших данных, но формируются представления о говорящем субъекте, что фактически определяет его статус в разных дискурсах. Если другой субъект может изменить свою точку зрения, то при взаимодействии с автоматизированными системами основа стигматизации может действовать совершенно без права на апелляцию.
Статус «нормы» определяется в экономическом, политическом, культурном отношении, может быть связан как с действиями самого субъекта, так и ботами, а также с теми субъектами, которые выдают себя за других, что служит основой не только для финансовых махинаций, репутационных рисков, моральных издержек, но и для действия правовых механизмов, определяющих положение говорящего субъекта, пределы его свободы. С учетом анонимности цифрового пространства эти вопросы имеют изначально важное значение для всех говорящих субъектов.
Видится важным соединить понятийный аппарат Мишеля Фуко из разных эпох, позволяющий представить разные аспекты темы цифровой стигматизации. В поздний период творчества он фокусирует внимание на субъекте. В работе «Мужество истины» (2014) Фуко актуализировал темы парресии и этической практики заботы о себе, предвосхитив проблему существования и сопротивления в условиях цифровой стигматизации. Смелое высказывание становится примером манифестации говорящего субъекта, усиливающим риск «отмены» и исключения такого субъекта. Алгоритмы нормы, создающие проблему внешней нормализации, определяют идентичность субъекта как навязанную. В идеях Фуко акцентируются вопросы целостности Я-субъекта. Высказывание истины представляется не только как единичный акт, но как стиль жизни, парадоксально доступный немногим. Казалось бы, анонимность цифровой среды, создающая возможность ненастоящих аккаунтов и никнеймов, дает возможность свободы мнения. Однако в условиях паноптикона и идентичности, обусловленной внешними факторами, цифровая среда становится пространством борьбы за истинную жизнь вместо навязанных ярлыков. Данная линия осложняет вопрос релятивности истины, ее зависимости от контекста, эпохи, эпистем – того явления, которое подчеркивает динамику формирования и субъекта, и окружающего его мира, и научной или квазинаучной попытки ее уловить. Данное понятие («эпистема»), напротив, олицетворяет ранний период работ Фуко, но оно также важно для интерпретации цифровой среды и стигматизации в ней. Выявление эпистемологического поля предполагает проявление в вещи, субъекте «истории условий возможности», и нужно понимать, что эпистема может быть расположена иначе и может произойти «стыковка сходства и воображения» (Фуко, 1994: 35, 76, 105).
По Фуко, парресия – основная черта киника (Фуко, 2014: 164). Отсылка к философии киников предполагает, что говорящий субъект может проявлять радикальные формы неприятия доминирующих норм. Цинизм может быть проявлением своеобразного цифрового протеста, сознательным отказом от конформизма и перформативности, несмотря на угрозу стигматизации. Как и парресия киников, в современном цифровом пространстве отличающееся от большинства мнение может вызвать «скандал», который приведет к исключению говорящего субъекта. В цифровую эпоху истина является результатом не консенсуса, а борьбы. Можно сказать, что истина в цифровую эпоху обладает агонистической природой. В конечном счете она может быть и не обнаружена, когда борьба сводится к дискредитации и устранению альтернативных мнений. Феномен «заботы», описываемый Фуко, интересен не только с точки зрения самого говорящего субъекта, но и сторонних сил, явлений и других индивидов. Образ пастыря, используемый Фуко (2014: 14), является моделью для того, кто может говорить сам и призвать тех, кто должен услышать, как можно говорить. Но этот образ подразумевает не только спасение и благополучие того индивида, на которого «пастырь» распространяет свое влияние. В этом действии может скрываться стремление к контролю. Так, физическое и психическое здоровье «защищаемого» индивида становится лишь поводом для последующих действий со стороны субъекта, имеющего доступ к власти. Тем не менее, учитывая то, что власть децентрализована и может оказаться в любой точке коммуникативного пространства, говорящий субъект должен обладать мужеством высказывания, чтобы сохранить статус субъекта, несмотря на угрозу исключения как в онлайн-, так и офлайн-пространстве. Такой подход требует не только осознания происходящего, когда субъект должен оперировать фактами, а не штампами, уметь быть объективным, а не предвзятым, необходимо также обладать внутренней силой и готовностью идти на риск для сохранения своей идентичности и мнений в условиях цифрового надзора и потенциальной возможности стигматизации. Нужно понимать, что проблема субъекта существует и как бы с обратной стороны вопроса. Ведь за алгоритмами скрывается конкретный человек, группы людей, институты. Разработчики алгоритмов и законодатели становятся новыми «экспертами». Именно их «знание» формирует критерии и категории исключения, а также механизмы стигматизации, которые не всегда очевидны в публичном пространстве. Дисциплина реального тела сменяется контролем «тела» пользователя, определяя его профиль (допустимость информации о себе) и активность в цифровой среде: куда можно идти, а куда запрещено. Фактически речь идет о потенциально возможном формировании «послушного» цифрового субъекта и «бунтаря», которого можно интерпретировать в правовых и этических категориях. В стигматизации одновременно сочетается непрерывность развития явления и разрывы в его формировании, что дает возможность понять эволюцию схожих по своему механизму действий: от физического заточения реального субъекта до цифрового бана его аватара. Акцент на теле субъекта в современном переосмыслении выводит нас на вопросы биополитики (Фуко, 2010в) и регламентации гендерных отношений в обществах и разных культурах – темах, актуальных в контексте концепта «традиционных ценностей», проблемах мигрантов и Другой культуры.
Таким образом, представляя собой механизм власти и контроля, стигматизация в цифровой среде может проявляться в разных практиках ограничения и исключения, связывая онлайн- и офлайн-реальность. Мишель Фуко не только дал подробный исторический анализ изменениям форм власти в разные периоды своего творчества, акцентируя разные грани темы, но определил внутреннюю логику и механизмы, которые продолжают действовать в современной цифровой среде, принимая новые формы. Приведенные примеры показывают, что философские концепции ‒ не просто теоретическая абстракция, а действенный аналитический инструмент анализа генеалогии власти, знания и практик сопротивления субъекта в цифровую эпоху. Генеалогический метод позволяет осознать денатурализацию стигматизации, которая не является «естественной» реакцией на «отклонение», представляя собой исторически сконструированный объект, изменчивый по способу своего формирования. Стигматизация всегда является маркером властных отношений. Она позволяет задаться вопросом о механизмах власти, о субъектности того, кто определяет «норму». Следствием этого важного момента является перспектива использования методов дискурс-ана-лиза, в частности, критического дискурс-анализа, позволяющего говорить о предвзятости любого дискурса. Дисциплинарные меры, которые фактически предъявляет сам дискурс, построены на алгоритмах, решениях разработчиков, модераторов групп и с учетом изменений правого поля. Цифровые системы приобретают фактически «судебные» функции, вынося «приговоры» говорящим субъектам: блокировки, ограничения функций, бан, понижение рейтинга и др. В этой связи социальные медиа и интернет-комментарии представляют собой новые, мощные пространства дисциплинарной власти и цифровой стигматизации, где бинарные оппозиции и дихотомия «свой – чужой» активно используются для формирования идентичности и навязывания идеологий.