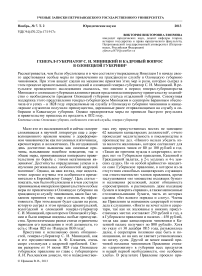Генерал-губернатор С. И. Миницкий и кадровый вопрос в Олонецкой губернии
Автор: Ефимова Виктория Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 7 (136) т.2, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается, чем были обусловлены и в чем состояли утвержденные Николаем I в начале своего царствования особые меры по привлечению на гражданскую службу в Олонецкую губернию чиновников. При этом акцент сделан на механизме принятия этих мер и роли, которую сыграл в этом процессе архангельский, вологодский и олонецкий генерал-губернатор С.И. Миницкий. В результате проведенного исследования оказалось, что именно в период генерал-губернаторства Миницкого олонецкая губернская администрация представила имперскому правительству ходатайство о необходимости придания Олонецкой губернии статуса отдаленной губернии. Совокупная поддержка этого представления генерал-губернатором Миницким и сенатором Барановым обеспечила его успех - в 1828 году определяемые на службу в Олонецкую губернию чиновники и канцелярские служители получили преимущества, дарованные ранее отправляющимся на службу в сибирские и Кавказскую губернии. Однако предпринятые меры не принесли быстрого результата и правительству пришлось их продлить в 1832 году.
Олонецкая губерния, особенности статской службы, генерал-губернатор
Короткий адрес: https://sciup.org/14750493
IDR: 14750493 | УДК: 94(470.22)617/19179
Текст научной статьи Генерал-губернатор С. И. Миницкий и кадровый вопрос в Олонецкой губернии
Мало кто из исследователей и сейчас оспорит сложившееся в научной литературе еще с дореволюционного времени мнение о дореформенном чиновничестве как поголовных взяточниках, крючкотворах и волокитчиках. На сегодняшний день достаточно выяснены как основные причины, вызывавшие подобное поведение, так и общие меры, принимавшиеся имперским правительством по борьбе с этими негативными яв-лениями1. Достигнуты определенные успехи и в изучении региональных особенностей кадровой политики2. Однако, на наш взгляд, еще недостаточно хорошо изучены эти особенности применительно к Европейскому Северу3. Цель статьи – показать, чем были обусловлены и в чем состояли принимаемые имперским правительством особые меры по привлечению в Олонецкую губернию на гражданскую службу чиновников, каков был механизм принятия этих мер и степень их эффективности. При этом акцент будет сделан на роли, которую сыграл в этом процессе архангельский, вологодский и олонецкий генерал-губернатор С. И. Миницкий, при котором в Олонецкой губернии и были впервые введены особые преимущества. Хронологические рамки статьи ограничены периодом его нахождения в этой должности, то есть с 18 мая 1823 по 18 апреля 1830 года4.
Приступив к исполнению своих обязанностей, генерал-губернатор С. И. Миницкий, как и его предшественник А. Ф. Клокачев, очень скоро столкнулся с кадровой проблемой. Своим рапортом от 14 июня 1824 года Олонецкое губернское правление во главе с губернатором А. И. Рыхлевским донесло, что в подведомствен
ных ему присутственных местах не замещено 62 вакансии канцелярских должностей5, отчего происходит медлительность в письмоводстве и производстве дел. «Никого нельзя убедить из-за малости жалованья», которое составляет для канцелярских чинов от 80 до 100 рублей в год. «Такая же причина нужды в секретарях», которых нет «в Губернском правлении, Казенной и Гражданской палатах, в 2-х уездных и 4-х земских судах». Но «в особой крайности» находится само Губернское правление, в котором из-за отсутствия способных канцелярских служащих «на ответственности» членов правления, кроме заслушивания «во множестве входящих бумаг» и наложения резолюций, лежит обязанность «просматривать и расписывать даже входящие бумаги и поверять справки», а также написанные столоначальниками бумаги, часть из которых сделана «без всякого порядка и слогу». Члены же Правления за неимением секретарей готовят дела к слушанию. «Никто не хочет идти в секретари, так как их жалованье в нижних присутственных местах составляет 250 рублей в год, а в Губернском правлении и палатах – 450 рублей, тогда как даже канцелярские чиновники в Казенной палате получают по 800 рублей». Хотя по указу от 30 декабря 1815 года, разъяснялось далее, к секретарям положено еще быть и помощникам, но на них не хватает установленных по штату сумм. Другой не менее важной причиной нехватки чиновников Правление считало «дороговизну» в губернии всех продуктов и вещей первой необходимости, «но особенно хлеба». В результате Правление просило при- бавки жалованья канцеляристам всех присутственных мест губернии, а в штат Губернского правления – 2-го секретаря, но, самое главное, разрешить определять «в число канцелярских чиновников лиц податного состояния», как это допущено делать «по питейной части в 1818 г.» в 29 великорусских губерниях, или «предоставить служащим какие-то особые выгоды»6. Генерал-губернатор, найдя эти причины «уважительными», 31 декабря 1824 года вошел в правительство с представлением о крайнем недостатке чиновников и канцелярских служителей.
Ответ от министра внутренних дел к С. И. Ми-ницкому последовал в отношении от 29 октября 1825 года. В. С. Ланской писал, что: 1) «по уважению обстоятельств» и на основании Высочайше утвержденного 13 мая 1823 года положения Комитета министров он разрешает определить 2-го секретаря в Олонецкое губернское правление; 2) прибавка членам и секретарям губернских правлений, уголовных и гражданских палат в сравнении с казенными палатами на основании указа от 14 ноября 1824 года «зависит от Вас»7; 3) несмотря на то что «наполнение мест канцелярских чинов из податных сословий» запрещено указом 1810 года, он все же внес этот вопрос на разрешение Сената. Решение по 3-му пункту последовало уже при Николае I, 31 августа 1826 года он утвердил положение Комитета министров. В нем говорилось, что, приняв в уважение ходатайство генерал-губернатора Ми-ницкого, присутственным местам Олонецкой губернии дозволялось «принимать на службу в канцелярское звание лиц податного состояния», в том числе и отпущенных на волю помещиками, на том же основании, как это позволено в малонаселенных Могилевской, Херсонской губерниях и Белостокской области (то есть без разрешения таким лицам до получения классного чина переходить на службу в другие губернии)8.
Однако такие паллиативные меры не достигали своей цели. По-прежнему оставались в силе штаты и жалованье, утвержденные Александром I еще в 1802–1804 годах и несколько увеличенные в 1821 и 1824 годах в связи с инфляцией9. При этом увеличение практически не коснулось нижних канцелярских служителей, для которых штаты вообще не расписывались, а жалованье выплачивалось ежеквартально («по третям») по усмотрению начальства из общих сумм, отпущенных на «канцелярский расход», включающий в себя, например, приобретение чернил и бумаги, отопление и освещение помещений.
Николай I, как и его брат, решил начать свое правление с пересмотра штатов всех государственных учреждений. Первый реальный шаг в этом направлении был сделан в отношении канцелярий генерал-губернаторов, штаты которых царь утвердил 26 февраля 1826 года. А 2 октября 1826 года Комитет министров постановил:
«…для отвращения затруднений в содержании как губернских канцелярий, так и присутственных мест по губерниям», составить по министерствам общие губернские штаты и внести в Государственный совет. Надпись царя на журнале Комитета гласила: «Весьма нужно и я прошу сим не замедлить». Однако когда министр внутренних дел представил по своему ведомству такой проект, то Николай I повелел собрать по этому поводу предварительно мнения генерал-губернаторов, а где их нет – гражданских губернаторов. В соответствии с этим 30 ноября 1826 года министр предложил С. И. Миницкому представить «как ныне существующие штаты ведомства Министерства внутренних дел», так и проект новых штатов с объяснением причин необходимых изменений и «вашим мнением». Генерал-губернатор в свою очередь поручил 10 декабря Олонецкому губернскому правлению сделать это10.
Олонецкое губернское правление во главе с губернатором Т. Е. Фан-дер-Флитом уже 31 декабря представило проект, а в сопровождавшем его рапорте подробно объяснило причины «увеличения числа канцелярских чиновников и жалованья», которые кратко можно свести к трем основным: 1) повышение курса серебряного рубля по сравнению с ассигнационным; 2) увеличение «год от года» количества текущих по губернии дел; 3) весьма невыгодное положение губернии «как по суровому климату и уединенному ее положению, так и по существующей в ней дороговизне на все продукты, но особенно хлеба». В самом проекте, например, для себя Олонецкое губернское правление просило вместо положенных по штату 3 советников и 1 асессора ввести 4 советников, положив каждому жалованье в размере 2400 рублей в год вместо 1500, оставить 2 секретарей, но повысить им жалованье с 800 рублей до 1200 каждому, а также придать им 2 помощников – с жалованьем по 900 рублей каждому в год. Кроме этого, Правление предлагало разделить штаты собственной канцелярии и губернатора, так как, писало оно, из-за постоянно возрастающего количества текущих дел оно уже не может отделять чиновников для губернаторской канцелярии «без крайнего расстройства в течение собственных дел». Однако в своем ответе от 12 января 1827 года С. И. Миницкий сообщил губернатору, что составленный проект «не совсем согласен с требованием Министерства внутренних дел», и просил его составить штаты заново, уменьшив при этом некоторые статьи, чтобы «излишеством не навлечь замечаний»11.
Представляя 11 февраля 1827 года министру внутренних дел проекты новых штатов, Миниц-кий писал, что, получив от 3 губернских правлений проект, он «подробно рассмотрел и составил для каждой губернии особый проект», руководствуясь ныне существующими ценами на жиз- ненные припасы, курсом серебряного рубля и «бережливостью», но все равно без увеличения штатов и жалованья не обойтись. При этом хуже всего положение в Олонецкой губернии, где «не токмо при городничих и земских судах не имеется письмоводства, но и в самом Губернском Правлении канцелярская служба имеется по найму». Причина этому одна, заключал он, – «на бедное содержание невозможно приискать желающих, чиновники от бедности впадают в преступления или подвергаются взысканиям»12.
В дополнение к этому представлению Ми-ницкого летом 1827 года губернатор Т. Е. Фан-дер-Флит вышел в Министерство внутренних дел с проектом о переносе губернского города из Петрозаводска в Вытегру. Так как «Описание Олонецкой губернии», в составе которого и фигурировал данный проект, относилось к разряду менее официальных представлений по сравнению с ежегодным отчетом или обозрением, то в нем были указаны и другие причины того, почему чиновники не желают служить в губернии. Например: «Чиновники, отправляющиеся на службу в сибирские города многолюдные, благоустроенные, встречают хорошее общество, все приятности жизни и во многих местах изобилие и дешевизну. Напротив, приезжающим в Олонецкую губернию представляется малолюдство и уединение, можно сказать, пустынное. Нигде не находят они ни общества, ни увеселений общественных, а при всем том должны, как и все, терпеть бедность, по выше сказанной несоразмерности жалованья с дороговизною. При сем сравнении невольно родится мысль: как бы благодетельно было чиновникам, определяющимся в Олонецкую губернию, предоставить какое-либо исключительное преимущество, наподобие даруемых тем, кои отправляются на Кавказ или в губернии Сибирские»13.
Мнение генерал-губернатора С. И. Миницко-го абсолютно совпало с мнениями других «начальников губерний». При этом все они обращали особое внимание на положение «канцелярских», которое «было хуже последнего поденщика» [1; 37]. Неслучайно поэтому правительство решило начать улучшение положения чиновничества именно с этой группы: 14 октября 1827 года Николай I утвердил «Положение о канцелярских служителях гражданского ведомства». Однако для олонецкой губернской администрации в нем было одно удручающее обстоятельство, а именно запрет поступать на гражданскую службу представителям из податных сословий14. Впрочем, тем из них, кто поступил на нее еще до принятия «Положения» 14 октября 1827 года, по особенным узаконениям (подобным указу от 31 августа 1826 года по Олонецкой губернии) давали дослужить, включив в 4-й разряд15.
В Олонецком губернском правлении это «Положение» было заслушано 22 октября 1827 года, а 2 ноября в Петрозаводск для ревизии приехал сенатор Д. О. Баранов. Правление, готовя к его приезду ведомости о состоянии губернии, предписанные сенаторской инструкцией 1819 года, посчитало крайне важным предуведомить их весьма пространным рапортом. В нем говорилось, что Олонецкая губерния с самого ее открытия, то есть «с 1802 г., и до сего времени претерпевает совершенный недостаток… в чиновниках и особенно канцелярских служителях». С уничтожением же в 1811 году в ней дворянских выборов, писало Правление, оно, «дабы только не остановить хода дел, замещало вакантные места людьми, кои, хотя прежде служили в здешней губернии, но были удалены от должностей по суду или же подвергшихся за упущения по службе… суду, а из вновь являвшихся принимать… таких чиновников, кои, не упражняясь в юриспруденции, не только не имеют достаточных познаний к исправлению в полноте своих обязанностей… но и самого порядка в производстве дел». Неопытность чиновников усугубляется сомнительной нравственностью некоторых из них, которые в переписке по службе наносят друг другу личные оскорбления, чем и без того затрудняют ход «важных дел». Однако главной причиной накопления дел по присутственным местам Правление считало «склонность к ябедам низкого класса людей», которые, не доверяя следствиям, проводимым земской полицией, жалуются на нее губернскому начальству. Чиновники же эти, «не имея прямого понятия о законах», не знают, как устранить от себя эти «нелепые подозрения», при этом многие из них, не желая заниматься «затруднительными делами, и само подозрение принимают за средство» к устранению себя от них. Вот поэтому «вся тяжесть» разбора переписок по личным неудовольствиям между чиновниками уездных присутственных мест, рассмотрение жалоб населения на них и даже проведение самих следствий «упадает» на Губернское правление, которое командирует для их разрешения не только своих членов16, но и членов уездных и земских судов из других уездов, отчего накапливаются дела уже в этих местах. Далее Правление жаловалось на то, что «канцелярских служителей с момента вторичного открытия здешней губернии никогда не было в комплекте, а во многих местах и половинного даже против штатного…». Никакие меры – ни вызов через столичные ведомости, ни требования от епархиальных архиереев17, ни запросы в Герольдию – «не обратили в Олонецкую губернию желающих не только в канцелярское звание, но и на классные должности». Последняя переписка об этом, писало Правление, состоялась в 1826 году. В результате появилось мнение Государственного совета 31 августа 1826 года, но «ныне и сей способ Общим положением от 14 октября 1827 года запрещен». В связи с этим Правление просило сенатора «усмотреть… край- ность» с канцелярскими кадрами, из-за которой оно и раньше «само признавалось пред правительством и ныне сознается в совершенной невозможности иметь не только достодолжного порядка, но и самонужнейшего успеху в производстве дел и переписок». А дальше Правление не только практически дословно повторило свое представление к генерал-губернатору от 14 июня 1824 года о положении дел у себя, но и добавило к нему новые подробности о служащих у него канцеляристах. Так, например, что из ныне служащих 8 столоначальников только 2 «способны быть помощниками секретарю», другие же и большая часть писцов не только «не знают в сочинении бумаг ни силы, ни порядка», но даже «правил правописания»; что только за 1827 год переменилось 11 столоначальников и «выбыло вовсе из штата правления 13 человек, в том числе большей частью малолетние, с коих невозможно даже взыскивать. В течение многих лет из принимаемых в канцелярию Губернского правления… замечены не имеющие хорошей нравственности, иные нетрезвого поведения, другие строптивы так, что самые меры сыска чрез полицию и удержания под арестом не производили над ними исправительного действия». А в это время производство дел по Правлению «год от году умножалось: так, в 1824 г. поступило входящих бумаг – 7009, а исходящих – 15 655; в 1826 г. соответственно – 9802 и 30 901». В заключение Правление, вновь констатировав, что «все меры к привлечению в сей край способных чиновников оказались недействительными», писало, что единственный выход из положения ему видится в «даровании льгот, которыми пользуются чиновники в Сибири и Кавказской губернии»18.
Сенатор Д. О. Баранов в своих донесениях Сенату от 29 января и 17 марта 1828 года подтвердил «крайний и общий недостаток по всей Олонецкой губернии чиновников и канцелярских служителей»19, присоединив к ним для большей убедительности и сами рапорты Правления. Сенат передал все бумаги на разрешение министру внутренних дел, который приказал олонецкому губернатору представить ему отчет о количестве недостающих чиновников. Исполнительный рапорт последовал от губернатора П. А. Лачинова 15 мая 1828 года20.
Несомненно, что столь солидарные донесения олонецкой губернской администрации, генерал-губернатора Миницкого и сенатора Баранова окончательно убедили правительство и царя в необходимости принятия в отношении Олонецкой губернии особых мер. 31 октября 1828 года Николай I утвердил мнение Государственного совета «О мерах к отвращению недостатка в Олонецкой губернии чиновников и канцелярских служителей». Согласно ему, определяющиеся сюда классные чиновники получали следующий чин (но не выше статского советника) и обязаны были для его удержания прослужить в губернии не менее 6 лет; канцелярским же служителям в 2 раза сокращался срок выслуги 1-го классного чина по сравнению с Положением 14 октября 1827 года. Кроме этого всем отправляющимся на службу в Олонецкую губернию выдавались двойные прогоны21. Помимо этого с конца 1827 года по требованию министра внутренних дел в губерниях началось составление штатов для нижних канцелярских служителей, а также определение размера необходимых им пайка и одежды. Губернатор Лачинов, представляя 26 декабря таковые по ведомству Министерства внутренних дел к генерал-губернатору, писал, что был вынужден из-за «крайнего уединенного положения Олонецкой губернии», дороговизны продуктов и «бедности здешних градских обществ» отнести содержание градских полиций на счет казны, а не городов, как того требовало законодательство. С. И. Миницкий, препровождая этот проект министру внутренних дел при отношении от 7 января 1828 года, в своем мнении согласился с мнением губернатора, но несколько уменьшил размер пайка и сумму, которая была предположена на форменную одежду для среднего и младшего разряда служителей22.
А пока в империи шел сбор проектов штатов, правительство хотело удостовериться, насколько эффективными оказались принятые в отношении Олонецкой губернии 31 октября 1828 года меры. Как видно из рапорта Лачино-ва от 18 декабря 1828 года, Сенат успел к этому времени определить в губернию из желающих 10 человек в члены земских судов и чиновники особых поручений при губернаторе. Оставалось еще заполнить вакансии 1 заседателя и 1 секретаря в Лодейнопольский и Вытегорский земские суды, а также 51 канцелярского служителя. Сделать это будет возможно, писал губернатор, так как к нему уже начали поступать прошения от отставных чиновников и канцелярских служителей из других губерний. Однако неожиданно случилась заминка. 18 января 1829 года министр внутренних дел для доведения государю о результатах предпринятых мер затребовал у губернатора ответа на вопрос: Все ли замещены места по Вашему списку от 15 мая 1828 года? 29 января губернатор рапортовал, что главная причина незаполнения вакансий канцелярских служителей состоит в том, что присланные в Олонецкое губернское правление прошения не содержат необходимых документов о службе, качествах и способностях желающих, поэтому Правление приняло решение напечатать объявления в газетах обеих столиц, чтобы желающие прилагали к прошениям требуемые бумаги. 22 марта и 25 сентября 1829 года министр вновь запросил, как обстоят дела с замещением вакантных мест. Ответ был представлен новым губернатором А. И. Яковлевым, но, к сожалению, выяснить, каково было содержание этого рапорта, нам пока не удалось, но зато известно, что им весьма интересовался генерал-губернатор, предложивший 18 октября губернатору представить ему список с этого рапорта. А 20 декабря 1829 года Миницкий, в ответ на присланный к нему от Яковлева отчет о первоначальном обозрении губернии, писал, что им до сих пор не получено ни от него, ни от Правления донесений о том, что сделано по высказанным в ходе этого обозрения губернатором замечаниям. В связи с этим генерал-губернатор задавал резонный вопрос: Кто виноват в выявленных недостатках? Если это бездействие нижних присутственных мест, то чиновников и канцеляристов, не исполняющих надлежащим образом свои обязанности, «щадить не для чего», так как теперь нет недостатка в желающих служить в губернии23.
Однако центральное правительство и генерал-губернатор явно торопили события, надеясь на быстрое решение кадровой проблемы. Как покажут дальнейшие события, происходившие уже после одновременно последовавшей 18 апреля 1830 года отставки генерал-губернатора Миниц-кого и ликвидации архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернаторства, на службу в Олонецкую губернию просились чиновники далеко не лучшие. Об этом свидетельствуют зафиксированные нами уже во 2-й половине 1830 года случаи удаления некоторых из них от должности с лишением полученных чинов за неспособность или плохое поведение. Неслучайно в 1832 году имперское правительство было вынуждено вновь подтвердить преимущества, предоставленные определяющимся на службу в Олонецкую губернию классным чиновникам и канцелярским служителям в 1828 году24.
Подведем итоги. К концу правления Александра I Олонецкая губерния столкнулась с крайним недостатком штатных классных чиновников и канцелярских служителей. По мнению местной администрации, этому способствовали как общие, так и особенные причины. К общим были отнесены инфляция и резко возросший документооборот, к особенным – суровый климат и «крайнее уединение губернии». Специфика губернии, в свою очередь, порождала особенности социального и экономического положения ее населения. Олонецкая губерния характеризовалась как «малолюдная», «недворянская», с абсолютным преобладанием государственных крестьян. Это приводило, с одной стороны, к тому, что местный аппарат управления формировался из коронных чиновников, главным источником существования которых было казенное жалованье, а с другой стороны, к большему потоку жалоб на местную администрацию со стороны сельского населения, более грамотного и независимого в силу специфики их занятий промыслами, нежели это было во внутренних «крепостнических» губерниях. Впрочем, по этим параметрам Олонецкая губерния была схожа с другими окраинными губерниями, но, прежде всего, с сибирскими [5; 197–232]. Однако было и отличие – это крайнее «уединение» Олонецкой губернии, приводившее к необыкновенной, даже по сравнению с Сибирью, дороговизне продовольствия. Многочисленные представления олонецкой губернской администрации в 1-й половине 1820-х годов о нехватке табельных чиновников и канцелярских служителей не имели успеха, пока не были поддержаны генерал-губернатором Ми-ницким и сенатором Барановым. В результате в 1828 году Олонецкая губерния получила статус отдаленной губернии, что позволило распространить на определявшихся на службу табельных чиновников и канцелярских служителей преимущества, предоставленные их коллегам в сибирских и Кавказской губерниях. Однако, как показали дальнейшие события, эти меры не принесли быстрого результата и были продлены в 1832 году.
* Статья написана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-11-10001 Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспективы») и Программы стратегического развития ПетрГУ (подпроект «CARELICA») в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
многолетней службы на Кавказе, нетрудно прийти к заключению, что именно этот губернатор первым выдвинул предположение о возможности отнесения Олонецкой губернии к числу отдаленных губерний [4; 36].
Список литературы Генерал-губернатор С. И. Миницкий и кадровый вопрос в Олонецкой губернии
- Анучин А.Е. Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России с Учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени. СПб., 1872. 252 с.
- Блиох И.С. Финансы России XIX столетия. История. Статистика. Т. 1. СПб., 1882. 344 с.
- Ефимова В.В. Кадровая политика генерал-губернатора архангельского, вологодского и олонецкого А.Ф. Клокачева (на примере Олонецкой губернии)//Вестник Карельского филиала СЗАГС-2008: Сб. науч. ст. Петрозаводск, 2008. С. 296-324.
- Кораблев Н.А., Мошина Т.А. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: Биографический справочник. Петрозаводск, 2006. 104 с.
- Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в 1-й половине XIX в. Омск, 1995. 237 с.