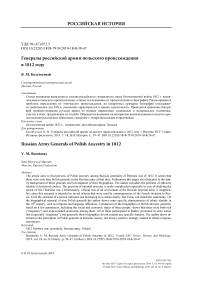Генералы российской армии польского происхождения в 1812 году
Автор: Безотосный Виктор Михайлович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.18, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению в составе российского генералитета эпохи Отечественной войны 1812 г. военачальников польского происхождения, а также исследованиюих происхождения и биографий. Рассматривается проблема определения их этнического происхождения, на конкретных примерах биографий показывается свойственное для XIX в. понимание характеристик и границ идентичности. Проводится сравнение биографий поляков-генералов русской армии по разным параметрам: социальное и материальное положение, участие в боях, продвижение по службе. Обращается внимание на восприятие военачальников польского происхождения российским обществом, связанное с этнорелигиозными стереотипами.
Отечественная война 1812 г, генералитет, российская армия, польша
Короткий адрес: https://sciup.org/147220165
IDR: 147220165 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-8-39-47
Текст научной статьи Генералы российской армии польского происхождения в 1812 году
Bezotosny V. M. Russian Army Generals of Polish Ancestry in 1812. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2019, vol. 18, no. 8: History, p. 39–47. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2019-18-8-39-47
Хорошо известно, что поляки составляли значительную часть Великой армии, вторгнувшейся в Россию в 1812 г. 5-й армейский корпус полностью состоял из польских полков, не считая отдельных польских частей в других корпусах. В то же время необходимо отметить, что, в отличие от наполеоновских войск, армия в России являлась практически мононациональной (не зря ее называли русской), но были и исключения, например пять уланских (армейских) полков, в составе которых находилось много поляков. Да и многие офицеры российской императорской армии были польского происхождения. А вот генералов поляков, воевавших против Наполеона и носивших «густые эполеты», в ту эпоху можно насчитать не так уж и много – всего девять человек: В. К. Браницкий, М. Ф. Влодек, Т. И. Збиевский, К. А. Крейц, Г. И. Лисаневич, А. П. Ожаровский, С. С. Потоцкий, О. К. Соколовский и Е. И. Чаплиц.
В генеральской среде российской императорской армии 1812 г. имелись представители почти из всех стран Европы, и поляки в данном случае не составляли исключение. Другое дело, кого можно было тогда считать поляком? В начале XIX столетия в обычной практике военного делопроизводства русской армии на каждого военнослужащего составлялись формулярные списки. Одна из граф этого документа касалась происхождения и вероисповедания. Причем вопрос вероисповедания для определения национальности был весьма актуален и для того времени, и для историков, занимающихся изучением биографических сведений о персоналиях.
Вопрос о национальной принадлежности всегда сложен. Ее можно установить, правда, не всегда легко, на основе записей в формулярных списках о принадлежности к польскому дворянству или на основании сведений о знании польского языка и латыни. Даже первичный анализ формулярных списков позволяет сделать вывод, что для определения национальности не подходят современные мерки, и необходимо учитывать критерии, которыми руководствовались люди прошлого века. Часто фамилия говорила лишь о принадлежности к определенному роду, но в случае длительного проживания этого рода в отрыве от своих соплеменников и ассимиляции, она могла уже не соответствовать первоначальным национальным корням. Анализ жизненного пути представителей нескольких поколений одной фамилии нередко свидетельствует об этом, поэтому запись в формулярном списке исследователю необходимо рассматривать лишь как отправную точку для дальнейших изысканий. Причем на этом пути встретится много подводных камней, поскольку вопрос о национальном самосознании людей XIX столетия в нашей литературе не поднимался. Поэтому целесообразно отдельно говорить о родовом происхождении, а затем уже пытаться определять национальность. При этом необходимо учитывать многие факторы: подданство, семейно-родственные связи, исторические корни рода, среду проживания, воспитание, вероисповедание и т. д.
Сложнее, когда такая запись оказывалась сделанной на носителей иноземных фамилий, особенно трудно точно идентифицировать фамилии с полонизированными окончаниями на -ий или -ич (Потоцкий, Браницкий, Юзефович, Капцевич, Лисаневич и т. д.). Тогда для определения необходимо привлекать разные источники (в первую очередь ранние формулярные списки), а иногда делать окончательный вывод, основываясь лишь на интуиции. Например, в поздних формулярных списках генерала Г. И. Лисаневича значится, что он «из дворян Херсонской губернии» без указаний на национальную принадлежность, а в первой его биографии, опубликованной в 1849 г., было написано, что «предки его были родом из Полоцка» [Император Александр I…, 1849. С. 1]. А вот украинский историк В. М. Заруба посчитал его внуком войскового товарища и сыном бунчукового товарища Ивана Михайловича Лисаневича [2011. С. 272]. Но это явная ошибка, поскольку в ранних формулярных списках Г. И. Лисаневича на 1802 г. его происхождение описано достаточно точно: «Из полского шляхетства родился он в России от родителей своих вышедших из Польши и оставшихся в вечном российском подданстве». В то же время указано, что «крестьян не имеет, а недвижимое имение состоит в Новороссийской губернии» 1. Хотя в данном случае нельзя исклю- чать возможность разделения по национально-религиозному признаку и развития полонизированной ветви Лисаневичей, или наоборот.
Но в формулярах встречаются и более пространные записи с привязкой к географическим пунктам и территориям (губерниям, уездам, островам, городам и т. д.) или даже к государствам, а также с упоминанием о подданстве и вероисповедании. Правда, иногда, сведения о них часто содержат минимальную информацию, хотя встречается весьма экзотический текст, дающий простор для исследовательских фантазий. В целом, заполненные соответствующие делопроизводственные графы генеральских формуляров представляют часто возможность лишь для приблизительного, а не точного определения вероисповедания и национальности. Во многих из них помещалась стандартная лаконичная фраза: «из дворян» (например, у Чаплица и Потоцкого). Для лиц с русскими фамилиями в этом случае определение национальной принадлежности не встречает препятствий.
Необходимо специально отметить на карте тогдашней Российской империи наличие польско-католического ареала влияния, но его притягательность ограничивалась географическими рамками бывшей Речи Посполитой. Кроме того, в высших слоях имперского общества господствовало стойкое историческое предубеждение к полякам, если не сказать больше. Приведем по этому поводу характерное высказывание известного тогда публициста Н. И. Греча. Перечисляя представителей наций, активно боровшихся с Наполеоном, он сделал лишь два исключения, упомянув турок и поляков: «Первые не христиане, последние и того хуже» [1990. С. 212]. В этих условиях попадавшие в Россию западноевропейцы и или их потомки вынуждены были делать выбор в пользу одного из культурно-религиозных центров: немецко-реформаторского или русско-православного.
В начале XIX столетия в обычной практике военного делопроизводства, как правило, редко поднималась проблема религиозной принадлежности российских уроженцев. В силу всем известного предпочтения каждой крупной национальности Российской империи к одной из господствующих в стране конфессий, современникам не требовалось лишних пояснений, что русские в основной массе исповедовали православие, поляки – католицизм, а остзейцы (лифляндцы, эстляндцы и курляндцы) придерживались «лютеранского закона». Поэтому часто запись об отношении военнослужащего к разряду российских, польских, лифляндских и прочих дворян как бы уже подразумевала конкретное вероисповедание. Принадлежность к определенной религии с детства формировала мироощущение и миропонимание у каждого человека, кроме того, являлась важным связующим звеном с культурными и национальными ценностями своего народа. Чаще всего в формулярных списках вопрос о вероисповедании поднимался в отношении выходцев с территорий, недавно присоединенных к России, иностранцев или лиц, исповедовавших не традиционную для их народа религию. Например, у Соколовского в формуляре было записано: «Из дворян Могилевской губернии римско-католического вероисповедания». У Ожаровского было указано: «Из польских дворян», у Збиевского – «Из польского шляхетства», а у Влодека – «Из дворян Виленской губернии» [Военная галерея 1812 года, 1912. С. 44, 92, 163, 192, 224].
Попробуем разобрать несколько трудных случаев. Так, весьма сложно было определить национальную принадлежность у К. А. Крейца. Его славянские предки еще до XVII столетия были онемечены и занимали видное положение в Пруссии, а затем переселились в Польшу, где его дед получил графский титул. Сам же он лишь в 1801 г. перешел на русскую службу из генерал-адъютантов последнего польского короля, причем до 1839 г. носил нехарактерный для польского дворянства баронский титул. В его послужных списках встречаются самые разнообразные записи: «Из курляндских дворян баронского рода», «Из дворян Литов-ско-Виленской губернии», «Из дворян графского достоинства вероисповедания римско-католического». Кем его считать – поляком или немцем? С одной стороны, среди российских генералов, природных немцев, мы найдем единственного католика – «уроженца города Кобленца курфюрства Трирского католического закона» Х. И. Трузсона 2, с другой – характерная запись в формуляре Крейца только для польских дворян о знании польского языка и латыни 3. В данном случае любой выбор чреват ошибкой. Мы можем лишь высказать предположение, что больше доводов считать его поляком. В пользу этого говорят двухвековое проживание в Польше его предков, вероисповедание и воспитание, а также наличие в среде шляхты Речи Посполитой довольно большого количества дворян с немецкими фамилиями 4.
Приведем не менее сложный случай с И. О. де Виттом, фамилия которого имеет голландское происхождение. Но в его формуляре имеется следующая фраза: «Вероисповедания грекороссийского из дворян графского достоинства Подольской губернии» 5. Он был старшим сыном подольского коменданта Юзефа (в русской транскрипции – Осипа) де Витта от брака с знаменитой красавицей фанариоткой (гречанкой) Софией Главоне (по другой версии – Маврокордато, а после развода во втором браке – Потоцкой). Воспитанный в православии И. О. де Витт (по законам империи дети принимали православие, если хотя бы один из родителей исповедовал эту религию) вырос в магнатской среде под влиянием польской культуры. Из отставки полковник И. О. де Витт был вновь принят на службу в 1811 г. Но за ним тянулся шлейф какой-то темной истории (до сих пор до конца не выясненной историками), из-за чего он был когда-то уволен из гвардии 6, да и его предшествующая авантюрная жизнь вызывала вопросы у многих современников. Русское командование перед 1812 г. использовало его знакомства и родственные связи в высшем польском обществе для получения разведывательной информации в герцогстве Варшавском, но, учитывая его репутацию, до конца не доверяло ему. Одновременно Барклай предупредил Багратиона (который также критически оценивал полковника): «…делая ему поручения, надлежит быть против него весьма осто-рожну, чтоб он ничего не мог узнать о наших распоряжениях, местопребывании войск… не входить с ним в искренние изъяснения и не доверять ему таких дел, обнаружение коих могло б вредить нашим пользам» [1812–1814. Секретная переписка…, 1992. С. 170]. В общем мнении он считался провокатором и авантюристом (в 1809 г. служил волонтером в армии Наполеона в кампании против австрийцев). Хотя впоследствии у высшего начальства де Витт имел полное признание, но не почитался своим, несмотря на православие 7. В целом, исходя из национальной принадлежности родителей, его все же нельзя назвать ни голландцем, ни греком, ни поляком, а нужно, с некоторым допущением, все же считать русским.
Можно сразу выделить из всей генеральской группы потомков польской элиты, ориентированной на Россию. Это – Браницкий, Ожаровский и Потоцкий. У всех троих отцы являлись не только владельцами огромных латифундий на Украине, занимали высшие должности в Речи Посполитой, но и были в свое время лидерами Тарговицкой конфедерации. П. Ожа-ровский (великий гетман коронный) был в 1794 г. повешен повстанцами в Варшаве за приверженность к России. Все трое генералов с юности по самой высокой протекции начинали свою службу. Среди впечатляющих примеров получения офицерских чинов с малолетства или даже с рождения, когда учитывались древность рода и заслуги славных предков, можно назвать большое количество юных представителей российской знати (Репниных, Волконских, Горчаковых, Каменских, Суворовых, Бибиковых, Строгановых, Воронцовых, Шуваловых). Но в этой среде аристократических «недорослей» были и поляки, удостоенные именных указов императрицы Екатерины о вступлении в службу малолетними офицерами в гвардейские полки. Так, В. Г. Браницкий, сын племянницы Г. А. Потемкина, с рождения был записан прапорщиком в л.-гв. Преображенский полк; в шесть лет граф С. С. Потоцкий и в 11 лет граф И. О. де Витт, были приняты «малолетними корнетами» в л.-гв. Конный полк. Справедливости ради укажем, что А. П. Ожаровский в 1794 г. с чином капитана ополчения участвовал в восстании под предводительством Т. Костюшко, и только в 1796 г. был принят корнетом в л.-гв. Конный полк 8.
Можно сравнить чинопроизводство польских «нобилей» и представителей шляхетских родов, начинавших службу при Екатерине II в армейских полках нижними чинами. Сын бедного польского шляхтича Т. И. Збиевский только после семи лет службы в нижних чинах за отличие при штурме Измаила был в 1790 г. произведен в поручики; Г. И. Лисаневичу, начавшему службу капралом в 1771 г., понадобилось четыре года, чтобы получить первый офицерский чин; О. К. Соколовский, перешедший с польской службы поручиком, в 1786 г. был принят в русскую армию с чином подпоручика (с понижением в чине), как того тогда требовало правило приема на службу из иностранной армии. Е. И. Чаплиц в 1783 г. был принят в службу с чином секунд-майора, а в 1788 г. попал в штаб Г. А. Потемкина 9. Если для выходцев из польской элиты служба в Петербурге в привилегированных гвардейских частях перемежалась с элементами культурных прелестей придворной и светской жизни, то для большинства польских дворян-офицеров, «тянувших лямку» в армейских полках в заштатных провинциальных местечках, будни даже в мирное время были наполнены гарнизонной скукой, бивуачным существованием, переходами с места на место, а также постоянными учениями. В общем – армейская рутина. В случае военных действий они в полной мере испытывали все тяготы и лишения военно-походной жизни.
Показательно, что поляки, вступившие в российскую службу еще до последнего раздела Речи Посполитой, с отличием участвовали в боях с польскими инсургентами в 1792 и 1794 гг. Лисаневич за эти две кампании дважды повышался в чинах, Соколовский в 1792 г. получил за отличие чин капитана, Чаплиц (принят из польской службы секунд-майором в 1883 г.) в 1794 г. был ранен в левую руку и даже находился в плену у мятежников.
Также нужно подчеркнуть, что в наполеоновскую эпоху все упомянутые лица принимали самое деятельное участие в войнах, которые вела Россия в то время. В кампании в Австрии в 1805 г. против французов сражались Чаплиц, Лисаневич, Соколовский, Влодек, Збиевский (награжден орденом Св. Георгия 4-го класса), Влодек, Ожаровский (награжден орденом Св. Георгия 4-го класса). В 1806–1807 гг. против французов на прусской территории вновь сражались Чаплиц (ранен), Лисаневич, Соколовский, Ожаровский (награжден орденом Св. Георгия 3-го класса), Крейц (в бою при Морунгене получил 14 ран и попал в плен), Зби-евский (был контужен). В войне против шведов принял участие Крейц, а с турками на Балканах воевали Чаплиц, Лисаневич (награжден орденом Св. Георгия 3-го класса), Збиевский (награжден орденом Св. Георгия 3-го класса), Браницкий, Влодек (ранен и награжден орденом Св. Георгия 4-го класса), Соколовский.
Интересно сравнить возраст получения генеральского чина у всех наших героев: в 26 лет графом С. С. Потоцким; в 31 год графом А. П. Ожаровским и графом И. О. Виттом; в 32 года графом В. К. Браницким; в 33 года М. Ф. Влодеком; в 35 лет бароном К. А. Крейцем; в 43 года Т. И. Збиевским; в 50 лет О. К. Соколовским; в 51 год Г. И. Лисаневичем и Е. Ф. Чап-лицем. В данном контексте очень заметен тот факт, что титулованные аристократы-поляки быстрее получали чины (с разницей 15–20 лет) и успешнее продвигались по службе, чем выходцы из бедной шляхты. Причины этого вполне очевидны.
Важно также понять материальную обеспеченность поляков, вступавших на военную службу Российской империи. Среди генералов (потомственных дворян) можно выделить два полюса: владельцев целых латифундий (свыше 1 тыс. крепостных) и беспоместных и малопоместных дворян. Как пример, приведем наследников магнатского поместья польского гра- фа Станислава Феликса Потоцкого, владевшего в начале ХIХ в. 312 городками и населенными пунктами на Украине (только в Уманском уезде Киевской губернии ему принадлежали 30 952 души мужского пола [Социальная трансформация…, 2005. С. 15]). После смерти графа в 1805 г. его владения (ок. 130 тыс. ревизских душ), правда отягощенные фантастическими долгами (16 млн злотых), были разделены между наследниками. Один из четырех сыновей от первого брака был генерал С. С. Потоцкий. Второй женой (также получившей значительную долю наследства) являлась София Потоцкая (в первом браке – де Витт). После ее смерти часть ее наследства получили сын от первого брака генерал И. О. де Витт и две дочери (София – замужем за генералом П. Д. Киселевым; Ольга – замужем за генералом Л. А. Нарышкиным) [Там же. С. 21–24].
К настоящим польским магнатам, владевшим колоссальными имениями на Украине в начале XIX столетия, можно в то время отнести В. К. Браницкого (за отцом – 80 000 душ), С. С. Потоцкого (8 000 душ), И. О. де Витта (2 500 душ). А. П. Ожаровский вместе с братом являлся собственником 250 крепостных, а за его матерью было записано 1 000 крестьян 10. Это были рекордсмены по владению крепостной собственностью, а вот остальные польские братья по сословию не могли с ними даже тягаться. Лишь в конце жизни за К. А. Крейцом числилось 50 душ (пожалован именем в Гродненской губернии в 1809 г.), а за Г. И. Лисане-вичем «новоприобретенных» 48 душ на пожалованном ему земельном участке в 760 десятин в Елизаветградском уезде Херсонской губернии [Император Александр I, 1849. С. 3; Безото-сный, 2018. С. 482, 485]. Упомянем, что М. Ф. Влодек и Е. И. Чаплиц также были владельцами поместий. А сведений на основе формулярных списков о владении поместий у О. К. Соколовского и Т. И. Збиевского (был женат на дочери Г. И. Лисаневича Анне) разыскать не удалось 11.
Как отпрыски магнатов, так и бедные польские дворяне связали свою судьбу с Российской империей и представляли тогда ту немногочисленную часть польского общества, ориентированную на Россию. Многие поляки, вероятно, служили из-за личной преданности императору. Не случайно известный историк 1812 г. А. Н. Попов написал об их отношении к Александру I: «Поляки, находившиеся на русской службе, Любомирские, Браницкие, Потоцкие, Грабовские говорили: он наше отечество» [1892. C. 176–177]. Это была попытка Александра I «оседлать польскую идею» и с помощью польской знати приручить бывшую Речь Посполитую.
Как раз представители польской элиты В. К. Браницкий, С. С. Потоцкий, М. Ф. Влодек, имея до 1812 г. придворные звания флигель-адъютантов, с успехом эксплуатировали эту слабость императора и использовали придворную службу как удачный трамплин в своей карьере, что дало им возможность во время заграничных походов 1813–1814 гг. получить генерал-майорский чин. А. П. Ожаровский уже в 1807 г. заслужил не только генерал-майорский чин, но и звание генерал-адъютанта. В 1812 г. большинство генерал-адъютантов без армейских должностей после отъезда из армии Александра I достаточно быстро покинули Главную квартиру, а только остававшемуся без дела А. П. Ожаровскому (единственному, кто являлся верным почитателем генерала К. Фуля 12) Кутузов во второй период войны был вынужден отдать в командование летучий отряд, предназначенный действовать через Юхнов на г. Красный: четыре казачьих, 19-й егерский, Нежинский драгунский и Мариупольский гусарский полки с шестью конными орудиями. Этот отряд из-за беспечности его командира французы изрядно потрепали под Красным [Отечественная война 1812 года, 1912. С. 138, 140, 146].
Перед началом Отечественной войны 1812 г. генерал-майорские чины имели лишь несколько поляков: Е. И. Чаплиц (1801), Г. И. Лисаневич (1807), Г. И. Збиевский (1810), А. П. Ожаровский (1807). Правда, на посты корпусного уровня кроме Чаплица, имевшего богатый опыт и выдвинувшегося в последних войнах, претендовать никто не мог. Сам же Чаплиц вполне подтвердил в «годину бед, в годину славы» полученную им предшествующую репутацию, командуя сначала кавалерийским корпусом, а затем авангардным корпусом Обсервационной, а затем 3-й Западной армии. За дело под Слонимом 31 октября 1812 г. он был произведен в генерал-лейтенанты, а за бой под Кенигсвартой в 1813 г. награжден орденом Св. Георгия 3-го класса. Лисаневич (шеф Чугуевского уланского полка) успешно командовал кавалерийской бригадой в составе 3-й Западной армии, участвовал во всех главных сражениях в 1812–1814 гг., с января 1814 г. назначен начальником 3-й уланской дивизии и в 1814 г. был пожалован в чин генерал-лейтенанта. Збиевский, будучи шефом Мингрельского пехотного полка, в 1812 г. командовал бригадой 16-й пехотной дивизии в составе 3-й Западной армии и в этом качестве проделал заграничный поход.
Остальные в 1812 г. первоначально имели чин полковника. Необходимо среди них особо выделить К. А. Крейца, шефа Сибирского драгунского полка и командира кавалерийской бригады. За отличие в боях под Витебском он был произведен в генерал-майоры, в Бородинском сражении получил контузию и ранения в руку и ногу (награжден престижным орденом Св. Георгия 4-го класса), а затем участвовал в преследовании неприятеля до западных границ. Соколовский, будучи шефом Ярославского пехотного полка, принял участие в боях 3-й Западной армии и за отличие в сражении при р. Кацбах получил в 1813 г. чин генерал-майора.
Интересная судьба в 1812 г. ожидала трех царских флигель-адъютантов, имевших чин полковника: Браницкого, Потоцкого и Влодека. Они числились в императорской свите. Александр I, покинув армию в начале военных действий, оставил большую часть чинов своей свиты при Главной квартире 1-й Западной армии. Фактически многие оказались без дела. В это время после соединения двух Западных армий под Смоленском обострилась борьба среди генералитета за выбор правильной стратегии, что послужило мощным толчком для создания в высших армейских кругах неформальной оппозиционной группировки, получившей название “русская” партия». Критика военной оппозиции была направлена против «немецкого засилья» в штабных сферах. Под завесой борьбы за национальную чистоту под Смоленском произошел взрыв шпиономании, направленный в первую очередь против всех иностранцев. Были высланы в Москву из армии четыре флигель-адъютанта, поляков по национальности (полковники В. К. Браницкий, С. С. Потоцкий, М. Ф. Влодек и штабс-ротмистр К. К. Любомирский), руководитель разведки 2-й Западной армии французский эмигрант подполковник маркиз Мориц де Лезер, высказывались также подозрения о шпионской деятельности ряда французов на русской службе, а также баронов Л. И. Вольцогена и В. И. Левенштерна [Безотосный, 2005. С. 118]. В данном случае, больше пострадали не немцы, а поляки и французы. В какой-то степени этот инцидент напомнил давний «спор славян между собою», а также свелся к застарелым претензиям православных к католикам. Вероятно, в этом случае нельзя исключать и конкурентную ревность по отношению к полякам со стороны российских штабных офицеров. Но после избрания М. И. Кутузова единым главнокомандующим национальный аспект потерял свою прежнюю актуальность и поляки флигель-адъютанты вернулись в армию; они сражались в Бородинской битве, в дальнейшем участвовали в преследовании Великой армии к русским границам, а во время заграничных походов 1813–1814 гг. все они смогли получить генеральские чины. Тем более что после Венского конгресса для Александра I было очень важно получить расположение поляков в созданном им тогда Царстве Польском.
В заключение отметим весьма любопытную деталь. В России в военных действиях 1812– 1815 гг. принимало участие всего девять генералов поляков из 531 военачальника. Из них женатыми были, по крайней мере, 434 человека. Если же брать национальную принадлежность жен российских военачальников, то генералы больше всего в супруги для себя после русских женщин (263 дамы) выбирали немок (113 дам), а вот польские красавицы составили генералам компанию из 101 женщины 13, потом шли француженки – 8 женщин [Безотосный,
2018. С. 389–393]. Безусловно, вне конкуренции у мужской части военного общества в России находились польки, которые всегда славились красотой. Так, участник заграничных походов русский офицер И. Т. Радожицкий, касаясь их возраста, оставил следующую запись по этому поводу: «Я заметил, в продолжении своих походов, что польские дамы, преимущественно перед дамами других наций, умеют сохранять свежесть красоты своей до преклонных лет, от туалетного искусства, или от умеренности в наслаждениях жизни» [Походные записки артиллериста…, 1835. С. 327]. Таким образом, можно констатировать, что в личном плане польские женщины достигли бо́ льших успехов, чем их польские мужчины. В этом и состоял их посильный вклад в победу над Наполеоном.
Тип. Лазаревых Ин-та вост. яз., 1835. Ч. 3. 354 с.
Русская старина. 1872. № 2.
Список литературы Генералы российской армии польского происхождения в 1812 году
- Безотосный В. М. Разведка и планы сторон в 1812 году. М.: РОССПЭН, 2005. 286 с.
- Безотосный В. М. Российский генералитет эпохи 1812 года: Опыт изучения коллективной биографии. М.: РОССПЭН, 2018. 670 с.
- Военная галерея 1812 года. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1912. 295 с.
- Заруба В. М. Козацька старшина Гетьманскоἰ Украἴни: Персональний склад та родиннἰ зв᾽язки (1648-1782). Днἰпропетровськ: ЛIРА, 2011. 932 с.
- Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах. СПб.: Тип. Карла Крайя, 1849. Т. 5. 342 с.
- Кандаурова Т. Н. Начальник Южных военных поселений граф Иван Осипович Витт // Хозяева и гости усадьбы Вяземы: Материалы IV Голицынских чтений 18-19 января 1997 г. Большие Вяземы, 1997. Ч. 2. С. 50-61.
- Попов А. Н. Эпизоды из истории двенадцатого года // Русский архив. 1892. № 2. C. 151-190. Сборник биографий кавалергардов. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1906. Т. 3. 402 с.
- Социальная трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине XIX - начала XX в. М.: РОССПЭН, 2005. 224 с.