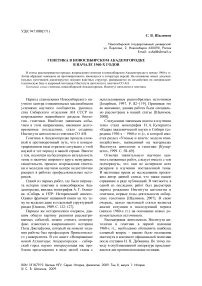Генетика в новосибирском Академгородке в начале 1960-х годов
Автор: Шалимов Сергей Викторович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс возрождения генетики в новосибирском Академгородке в начале 1960-х гг. Автор обращает внимание на противоречивость имеющихся в литературе версий. На основании новых документальных источников анализируется позиция властных структур, раскрывается их воздействие на материально-техническую базу и кадровый потенциал Института цитологии и генетики СО АН.
Генетика, новосибирский академгородок, институт цитологии и генетики
Короткий адрес: https://sciup.org/14737020
IDR: 14737020 | УДК: 947.088(571)
Текст научной статьи Генетика в новосибирском Академгородке в начале 1960-х годов
Период становления Новосибирского научного центра ознаменовался масштабными усилиями научного сообщества, руководства Сибирского отделения АН СССР по возрождению важнейшего раздела биологии – генетики. Наиболее значимым событием в этом направлении, имевшим долговременные последствия, стало создание Института цитологии и генетики СО АН.
Генетика в Академгородке прошла сложный и противоречивый путь, что в концентрированном виде отразило ситуацию с этой наукой в тот период в нашей стране. Вместе с тем, несмотря на бесспорную актуальность темы и наличие широкого круга мемуарных свидетельств, процесс возрождения генетики в молодом научном центре недостаточно раскрыт в работах профессиональных историков.
Одной из первых работ, где была затронута история генетики в новосибирском Академгородке, явилась монография А. Г. Осипова «Сибирь и НТР: Исторический аспект». Однако фрагмент названной книги на эту тему не выделен даже в отдельный структурный раздел [Осипов, 1989. С. 122–127].
Первым же историческим очерком, давшим общую картину развития рассматриваемых событий, можно считать монографию известного американского историка Пола Джозефсона, который на момент издания работы был профессором Принстонского университета. В его книге «Возвращение новой Атлантиды: Академгородок – сибирский город науки» интересующая нас проблема представлена в виде целой главы с использованием разнообразных источников [Josephson, 1997. P. 82–119]. Принимая это во внимание, данная работа была специально рассмотрена в нашей статье [Шалимов, 2008].
Следующим значимым шагом в изучении темы стала монография Н. А. Куперштох «Кадры академической науки в Сибири (середина 1950-х – 1960-е гг.)», в которой имеется раздел «Ученые и власть: модели взаимодействия», написанный на материалах Института цитологии и генетики [Купер-штох, 1999. С. 58–69].
Отмечая значительную научную ценность названных работ, следует вместе с тем подчеркнуть, что они не исчерпали всех резервов в изучении поставленной темы. В настоящее время ее исследование продолжил автор данной статьи, что также нашло отражение в ряде публикаций. В частности, в одной из последних работ был рассмотрен период рождения Института цитологии и генетики, первые годы деятельности сибирских генетиков [Шалимов, 2007]. В свою очередь, целью настоящей статьи является анализ ситуации в последующий период (начало 1960-х гг.) на основании новых документальных источников.
Рассматривая деятельность Института цитологии и генетики в первой половине 1960-х гг., необходимо обозначить наиболее сложный вопрос – каково было положение института в контексте официальной политики после отставки Н. П. Дубинина. По этому поводу в опубликованной литературе прослеживаются две противоположные позиции.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 1: История © С. В. Шалимов, 2009
Первая версия изложена в мемуарах М. А. Лаврентьева [Век Лаврентьева, 2000. С. 149–152] и отчасти воспроизведена в исследованиях А. Г. Осипова и Н. А. Купер-штох. Выводы названных авторов можно выразить формулой: «Все успокоилось и стабилизировалось».
Иная позиция прослеживается в ряде воспоминаний бывшего директора института академика В. К. Шумного, а также супруги академика Д. К. Беляева С. В. Аргутинской. Так, в сборнике «Дмитрий Константинович Беляев» Владимир Константинович Шумный оценивает ситуацию первой половины 1960-х гг. как «самые тяжелые для института времена» [Дмитрий Константинович Беляев, 2002. С. 117]. В свою очередь, в мемуарном фрагменте в книге «Главный геолог» (посвященной академику А. А. Трофимуку) названный автор пишет: «До 1964 г. предпринимались три санкционированные ЦК КПСС настойчивые попытки закрыть этот институт. Частично удалась только первая. По прямому распоряжению Н. С. Хрущёва был снят с поста директора Н. П. Дубинин. Две другие попытки М. А. Лаврентьеву, С. А. Христиановичу, А. А. Трофимуку и Д. К. Беляеву удалось отбить. Для этого необходимо было обладать мужеством и огромным чувством взаимоподдержки и единства научного сообщества» [Главный геолог, 2002. С. 126].
Во время нашей встречи с Владимиром Константиновичем он конкретнее обозначил положение института в рассматриваемые годы. Так, осень 1958 и 1959 гг., а также первая половина 1960 г. были, по его мнению, самым тяжелым временем. После же этого имел место «вялотекущий процесс» давления на институт вплоть до октября 1964 г. На данном этапе, по словам академика, угрозы закрытия института уже не было, хотя некоторые негативные действия со стороны властных структур в отношении него по-прежнему предпринимались 1 .
Со своей стороны, С. В. Аргутинская так характеризует ситуацию после отставки Н. П. Дубинина: «Между тем для института наступили тяжелые времена. Фактически он оказался на полулегальном положении: статьи сотрудников не печатали. <…> Давление на институт продолжалось» [Аргутин- ская, 2007. С. 90]. Следует отметить, что приведенное выше мнение разделяет П. Джозефсон, в частности утверждая: «Будучи в течение 6 лет лишенным своих возможностей, институт вынужден был занимать полулегальное положение» [Josephson, 1997. P. 83].
В какой-то мере с этим согласуется устное свидетельство одного из первых сотрудников Института цитологии и генетики доктора биологических наук, профессора И. И. Кикнадзе, по утверждению которой основные нападки на институт развернулись в период директорства Д. К. Беляева, так как при Н. П. Дубинине он находился лишь в стадии становления. По мнению Ии Ивановны, трудный период в жизни сибирских генетиков длился до 1965 г., когда началось «послабление» 2 .
Характерно, что в недавно вышедшем фундаментальном издании «Российская академия наук. Сибирское отделение: Исторический очерк», в сущности, представлена аналогичная позиция. В главе «Создание» сообщается: «По воспоминаниям В. К. Шумного, в то время молодого сотрудника Института цитологии и генетики, а в последующем его директора и академика, «наш институт много лет “висел на волоске”» [Российская академия наук..., 2007. С. 143].
Оценивая правомерность той и другой версии о ситуации вокруг Института цитологии и генетики в первой половине 1960-х гг., весьма сложно сделать однозначные выводы. Дело в том, что в рассматриваемый период – в отличие от наиболее острых событий 1959 г., – изучаемые процессы в большей мере носили латентный характер. Зачастую о реальном положении можно лишь предполагать по различным косвенным признакам.
Вместе с тем в нашем распоряжении имеется ряд документов, которые в какой-то мере позволяют судить о том, как выглядел Институт цитологии и генетики в глазах центрального и местного руководства. В ряду такого рода ключевых источников следует отметить, прежде всего, материалы проверки партийной организации СО АН СССР, проведенной в начале 1961 г. Отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР. Составленный по результатам проверки от- чет, датированный 9 февраля 1961 г., вместе с приложенным проектом постановления Бюро является весьма ценным источником, характеризующим состояние Сибирского отделения в целом. Здесь нашли отражение все проблемы СО АН, начиная от бытового устройства ученых и заканчивая взаимоотношениями в его руководстве.
Разумеется, в таком документе не мог быть не затронут ИЦиГ. Прежде всего необходимо сказать, что среди перечисленных в вводной части отчета достижений СО АН упомянуты и результаты исследований генетиков. В частности, отмечалось, что гибрид кукурузы «Сибирская-2» и семена триплоидной сахарной свеклы были переданы на государственные испытания.
Тем не менее отчет в целом носил преимущественно критический характер, и сибирские генетики в этом плане не являлись исключением. Так, в документе указывалось: «В институтах не выполняется план издания научной литературы, особенно большое отставание по техническим и биологическим наукам». Кроме того, было отмечено: «До сих пор не принято надлежащих мер в улучшении работы экспериментального хозяйства. В экспериментальном хозяйстве в плохих условиях содержатся 200 коров, 100 свиней, в хозяйстве недостает кормов. Институты биологии, генетики и цитологии 3 , Ботанический сад не развернули научных исследований в экспериментальном хозяйстве, не разрабатывают агротехнических мероприятий по повышению урожайности сельскохозяйственных культур» 4 .
В приведенных выше фрагментах сам Институт цитологии и генетики либо не упоминался, либо назывался в ряду других научных учреждений. Однако наибольший интерес вызывают те части отчета, где речь идет непосредственно об ИЦиГ, причем затрагиваются, главным образом, не научные, а идейно-политические проблемы. В документе, в частности, утверждалось: «В Институте генетики и цитологии часть руководящих кадров подбиралась т. Дубининым. После освобождения т. Дубинина, в инсти- туте остались ранее подобранные им кадры, некоторые из них до сих пор поддерживают с ним научную связь (т. т. Шкварников, Керкис). Партком не принял мер по разъяснению молодежи ошибочных взглядов т. Дубинина, в силу чего некоторая часть молодых работников института сожалеет о его уходе из института. В целом Институт генетики и цитологии укомплектован молодежью, которая окончила Московский, Ленинградский университеты, и желает работать в области биологических наук» 5 .
Значительный интерес представляет проект 6 постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР по данному вопросу. Бросается в глаза, что здесь среди перечисленных достижений СО АН уже не говорилось об успехах генетиков, и в то же время подчеркивалось, что ИЦиГ, Ботанический сад и Институт биологии «недостаточно развернули научные исследования в экспериментальном хозяйстве». Что касается самого Института цитологии и генетики, то здесь главный акцент был сделан на состояние кадров: «Имели место факты отступления от принципа персонального подбора кадров. В Институте генетики и цитологии более года нет директора института. В этом институте слабо проводится пропаганда достижений мичуринской науки и не разъяснены молодежи ошибки старого руководства института» 7 . Симптоматичным является упоминание об «отсутствии директора», хотя с момента снятия Н. П. Дубинина (октябрь 1959 г.) институтом руководил Д. К. Беляев. Возможно, это было связано с тем, что Дмитрий Константинович вплоть до 1965 г. находился в статусе исполняющего обязанности директора 8 .
В заключительной части документа, среди многочисленных указаний соответствующим инстанциям также неоднократно упоминался ИЦиГ. В частности, предписывалось: «Партийным организациям и руководству Институтов биологии, генетики и цитологии и Ботаническому саду направить все свои усилия на выполнение решений январского Пленума ЦК КПСС». Кроме того, указывалось: «Обратить внимание парткома и руководства Сибирского отделения АН СССР на необходимость дальнейшего улучшения подбора кадров. Укрепить научными кадрами Институт генетики и цитологии» 9.
Как видим, документ содержал умеренную критику Института цитологии и генетики, особый акцент был сделан на необходимости преодоления издержек «старого руководства». Что касается критики за недостаток практических результатов, то в этой связи назывались и другие биологические учреждения без особого выделения Института цитологии и генетики. В то же время в документе упоминались достижения института, в частности, говорилось о передачи на государственные испытания гибридов кукурузы «Сибирская-2» и семян трип-лоидной свеклы.
В целом же необходимо иметь в виду, что главным объектом рассмотренной проверки была работа парткома СО АН, а Институт цитологии и генетики изучался лишь в ряду других.
Знаковым мероприятием, свидетельствовавшим о сохранении непростой ситуации, стала проведенная в 1961 г. проверка «идейной направленности и связи с практикой коммунистического строительства» Института цитологии и генетики. Она была осуществлена комиссией парткома СО АН под руководством доктора философских наук, профессора И. И. Матвеенкова 10. Последний, как известно, был заведующим кафедрой основ марксизма-ленинизма СО АН и председателем комиссии по общественным наукам при Президиуме СО АН. Ито- говый документ (выводы) комиссии датирован 28 июня 1961 г.
Характерно, что первый пункт выводов содержит положительную оценку деятельности ИЦиГ: «В плане научных исследований института значатся вполне актуальные темы, отвечающие насущным потребностям сельского хозяйства». В документе подчеркивалось: «В качестве итогов научной работы института следует указать на то, что институтом получены впервые на массивах чернопестрого скота Сибири данные о наследственности обильномолочности, жирномолочности и крупноплодности. <…> Достигнуты известные успехи в области выведения триплоидных гибридов сахарной свеклы и получения тетраплоидов из основных сортов сахарной свеклы и др.» 11 . Вместе с тем отмечался ряд недостатков в работе института, прежде всего следующее: «Институт исследует исключительно важную проблему – воздействие малых доз радиации на человека. Но в институте явно преувеличиваются достижения Н. П. Дубинина и Ю. Я. Керкиса в области исследования этой проблемы. Во-первых, в методике подсчета до самого последнего момента применялась неправильная формула <…> исключающая действительный эффект. Это признал Ю. Я. Керкис, заявив, что Дубинин ввел его в заблуждение с этой формулой» 12 .
Далее в рассматриваемом документе содержалось серьезное критическое замечание в адрес всего коллектива института: «Что касается печатной продукции работников института за последние 3 года, то она в подавляющем большинстве является результатом исследований, сделанных научными работниками по прежнему месту работы» 13 .
Наиболее серьезные претензии идеологического порядка содержал третий раздел документа: «Институт до сих пор не сделал всех необходимых выводов из критики методологических основ его научных исследований комиссией ЦК КПСС в январе 1959 г., когда, по выражению академика Ольшанского 14, в институте монопольно господ- ствовало формально-генетическое направление. Научные работники института до сих пор не выступают с критикой морганизма-менделизма. Нам не известно ни одной статьи, ни одного доклада работников института, посвященных идеологической борьбе против морганизма-менделизма. А некоторые научные сотрудники института (Нико-ра 15) считают критику философских основ морганизма-менделизма ненужной. Даже на философских семинарах как по теме “О партийности в науке”, так и по теме “Философский аспект проблемы перехода от неживого к живому” (доклады Р. И. Салга-ника) не было дано критики морганистского направления в биологической науке. Кроме того, некоторые научные работники института демонстративно подчеркивают свое идейное родство с Н. П. Дубининым. Бывший секретарь парторганизации Ю. П. Ми-рюта при обсуждении на закрытом партийном собрании редакционной статьи “Правды”, в которой был подвергнут критике Дубинин, заявил, что на сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. была разгромлена советская биология (т. Мирюта разгром морганистов выдает за разгром советской биологии). <…> Во время беседы в парткоме Ю. П. Мирюта заявил, что его с Дубининым связывает идейное родство, что поэтому он и весь коллектив института очень тяжело переживает критику Дубинина Н. С. Хрущёвым» 16.
Документ завершался требованием «обязать коммунистов Института цитологии и генетики СО АН в своей научной работе проводить принцип большевистской партийности <…> ведя воинственную и непримиримую идеологическую борьбу с морганизмом-менделизмом за материалистическую мичуринскую биологию». Кроме того, предписывалось «потребовать от коммунистов института немедленного выполнения предложения комиссии ЦК КПСС от
21 января 1959 г. о полном преодолении монопольного господства формально-генетического направления в институте путем привлечения на работу в институт дополнительно группы квалифицированных научных работников, стоящих на позициях мичуринского направления». Также предлагалось «укрепить руководство института, поставив во главе его ученых высшей квалификации, <…> наполнить институт кадрами высшей и средней квалификации и прежде всего сторонниками мичуринского направления» 17 .
Что касается важнейшей формулировки об «укреплении руководства», то в то время она однозначно подразумевала смену директора, а намек на недостаточную квалификацию руководства института мог быть адресован Д. К. Беляеву, который в тот момент был малоизвестным кандидатом биологических наук. По устному свидетельству академика В. К. Шумного, еще в 1959 г., во время очередного «наезда» на генетиков, обсуждался ряд более приемлемых кандидатур, среди которых был директор Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства (АНИИСХОЗ) Г. А. Наливайко 18 . Возможно, такого рода претенденты рассматривались и в начале 1960-х гг.
Из всего этого можно сделать следующий вывод: со стороны властно-идеологических структур к сибирским генетикам предъявлялись достаточно жесткие требования, и в случае их реализации по институту мог быть нанесен новый удар.
Однако, как мы знаем, предложения комиссии не имели серьезных последствий. Вероятно, здесь сыграло свою роль различие позиций идеологических и научных структур. В частности, отношение Президиума АН СССР к ИЦиГ рельефно иллюстрирует протокол «Экспертной группы по биологии, выделенной постановлением Президиума АН СССР для ознакомления с состоянием научно-организационной работы и перспектив развития научных исследований
Института цитологии и генетики СО АН СССР» (сентябрь 1961 г.).
Необходимо подчеркнуть, что итоги данного мероприятия рассмотрены в исследовании П. Джозефсона, однако названный автор выдвигает в этой связи следующее необоснованное утверждение: «Даже после снятия Дубинина, комиссии, организованные “лысенковцами”, посещали Академгородок с целью пристальной проверки сибирской генетики» [Josephson, 1997. P. 98]. На наш взгляд, нет оснований рассматривать упомянутую экспертную группу в ряду «лысенковских» проверок.
На самом деле в документе давался в целом позитивный отзыв об институте и делался акцент на практических проблемах, требующих решения. Прежде всего, отмечалось: «Институт цитологии и генетики представляет собой сложившееся научное учреждение, проводящее исследовательскую работу на современном научном уровне, на основе диалектического материализма, а его коллектив научных кадров способен решать поставленные перед институтом задачи по разработке генетических проблем с использованием новейших достижений физики, химии и математики». Кроме того, обращалось внимание на уникальность института: «По ряду направлений, в частности по экологической генетике животных, по изучению мутационного процесса в связи с предшествующей эволюцией видов у растений и животных и др. институт является единственным научным учреждением СССР» 19 .
Основное же внимание было уделено трудностям материально-технического плана. Так, отмечалось, что «дальнейшее развитие работ института тормозится ограниченностью производственных площадей, разбросанностью лабораторий, неприспособленностью значительных площадей для исследовательской работы». Помимо этого, в документе был затронут первоочередной для генетиков вопрос о собственном здании: «Необходимо форсировать строительство института» 20 .
Подводя итог, попытаемся выявить подоплеку появления рассмотренных документов. Проверка деятельности парткома СО АН, возможно, была связана с предстоящим визитом Н. С. Хрущёва, который посетил Академгородок в марте 1961 г. Как известно, его второй приезд в новый научный центр заметно отличался от предшествующего визита в октябре 1959 г., когда руководство СО АН подверглось резкой критике, а для генетиков дело закончилось снятием директора ИЦиГ Н. П. Дубинина. Сейчас положение было существенно иным, и это, возможно, объясняет, почему составленный по результатам проверки и за месяц до визита Н. С. Хрущёва проект постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР не был принят к рассмотрению.
Таким образом, ситуация смягчилась, но, судя по всему, были силы, заинтересованные в ее обострении. В этом контексте проверку Института цитологии и генетики комиссией парткома СО АН допустимо рассматривать как своего рода «контрудар» сторонников Т. Д. Лысенко. Нельзя исключать, что за спиной И. И. Матвеенкова стоял Новосибирский обком КПСС. Несмотря на распространенную версию о помощи генетикам со стороны его первого секретаря Ф. С. Горячева, имеется достаточно аргументов, заставляющих усомнится в ее достоверности.
В свою очередь, работу экспертной группы, организованной Президиумом АН, следует расценивать как попытку «заступиться» за институт.
Вместе с тем главный вывод, вытекающий из анализа всех трех документов, заключается в том, что такой остроты ситуации, как в 1958–1959 гг., уже не было. Рассматриваемый период начала 1960-х гг. характеризуется некоторым снижением внешнего давления на Институт цитологии и генетики и в то же время продолжением определенного противодействия его работе со стороны «мичуринцев». Кроме того, очевидно, что возрождение генетики в Новосибирском научном центре тормозилось целым комплексом других факторов и прежде всего недостатками в материальнотехнической базе.
GENETICS IN NOVOSIBIRSK AKADEMGORODOK IN THE EARLY 1960s