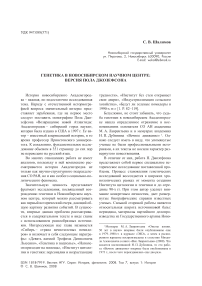Генетика в Новосибирском научном центре: версия Пола Джозефсона
Автор: Шалимов С.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 1 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736930
IDR: 14736930 | УДК: 947.088(571)
Текст краткого сообщения Генетика в Новосибирском научном центре: версия Пола Джозефсона
История новосибирского Академгородка – важная, но недостаточно исследованная тема. Наряду с отечественной историографией вопроса значительный интерес представляет зарубежная, где на первое место следует поставить монографию Пола Джозефсона «Возвращение новой Атлантиды: Академгородок – сибирский город науки», которая была издана в США в 1997 г. Ее автор – известный американский историк, в то время профессор Принстонского университета. К сожалению, фундаментальное исследование объемом в 351 страницу до сих пор не переведено на русский язык.
Во многих отношениях работа не имеет аналогов, поскольку в ней комплексно рассматривается история Академгородка не только как научно-структурного подразделения СО РАН, но и как особого социально-политического феномена.
Значительную ценность представляет фрагмент исследования, посвященный возрождению генетики в Новосибирском научном центре, который можно рассматривать как первый исторический очерк, дающий общую картину развития событий. В сущности, впервые данная проблема рассматривается в содержательном тексте в виде главы с использованием разнообразных источников. Интересующая нас глава называется «Сибирь – страна вечнозеленых помидоров» и включает в себя следующие параграфы: «Девять жизней Трофима Денисовича Лысенко», «Генетика в подполье», «Наполеон приходит на помощь», «Институт цитологии и генетики: персоналии и возрастающие трудности», «Институт без стен открывает свои двери», «Индустриализация сельского хозяйства», «Будут ли зеленые помидоры в 1990-х гг.» [1. P. 82–119].
Безусловно, не стоит забывать, что судьба генетики в новосибирском Академгородке нашла определенное отражение в воспоминаниях основателя СО АН академика М. А. Лаврентьева и в мемуарах академика Н. П. Дубинина «Вечное движение» 1. Однако следует иметь в виду, что упомянутые ученые не были профессиональными историками, а их тексты не носили характер развернутого повествования.
В отличие от них, работа П. Джозефсона представляет собой первое специальное историческое исследование поставленной проблемы. Процесс становления генетических исследований воссоздается в широких хронологических рамках от момента создания Института цитологии и генетики и до середины 90-х гг. При этом автор уделяет внимание конкретным личностям, дает развернутые биографические справки известных ученых. Сильной стороной работы является относительная широта источниковой базы: периодика, материалы партийного делопроизводства из Государственного архива Ново-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 1: История © С. В. Шалимов, 2008
сибирской области, документы научно-организационных структур из Научного архива СО РАН, а также ценнейшая ее часть – интервью участников событий.
Вместе с тем, признавая значимость исследования П. Джозефсона, необходимо отметить наличие в его работе некоторых спорных положений и ряда неточностей. Возможно, в силу того, что автор первым предпринял попытку комплексного изучения сложного вопроса возрождения генетики в новосибирском Академгородке, П. Джозефсону не удалось в полной мере разобраться со всеми его реалиями. Кроме того, несмотря на достаточно широкий круг привлеченных источников, исследователь по непонятным причинам не использовал такой ключевой исторический источник, как мемуары М. А. Лаврентьева. Можно предположить, что именно по причине некоторой неполноты источниковой базы П. Джозефсон допускает ряд неуместных интерпретаций.
Так, во вступительной части главы он пишет: «После смерти Сталина, Дубинин, как ученый, придерживающийся своей точки зрения, который учился вместе с основоположниками советской генетики, боролся за освобождение биологии от власти лысен-ковщины. К нему присоединились Дмитрий Беляев, Юрий Керкис 2 и другие специалисты, которые занимали незначительные должности во времена Лысенко» [1. P. 83]. Между тем в упомянутый период Д. К. Беляев не был широко известным специалистом и его нельзя ставить в один ряд с Ю. Я. Керкисом, который уже в довоенное время имел определенный научный вес 3.
Далее П. Джозефсон отмечает: «Будучи в течение 6 лет лишенным своих возможностей, институт вынужден был занимать полулегальное положение. Такие соратники Дубинина, как Беляев и Керкис, Раиса Берг, Пётр Шкварников и Рудольф Салганик обеспечили успех сибирской генетики. Эти уникальные, сильные люди сумели каким-то образом пережить 20 лет лысенковщины, ведя подпольные генетические исследования» [Ibid.].
В приведенном выше фрагменте мы обнаруживаем значительное число противоречий и неточностей. Во-первых, тезис о «полулегальном положении» института встречается и в других публикациях, но представляется чересчур категоричным и не подтверждается источниками. Во-вторых, неточность допущена автором при перечислении коллег Н. П. Дубинина. В частности, Р. Л. Берг приехала в Академгородок лишь в 1963 г.
В параграфе, посвященном жизнеописанию Т. Д. Лысенко, П. Джозефсон дает очерк истории советской генетики в первой половине ХХ в. Стоит отметить, что здесь также обнаруживаются некоторые спорные моменты. Так, он утверждает: «Однако одно достижение Лысенко, по акклиматизации экзотических растений и животных, таких как норки и серебристые лисицы, для экономических целей, оставалось центральной характеристикой генетики периода постлы-сенковщины и практиковалось в институте цитологии и генетики» [1. С. 84]. Таким образом, если верить автору, то получается, что работы Д. К. Беляева в какой-то степени являлись продолжением исследований «народного академика».
Характерно, что подобное мнение мы встречаем в книге Н. П. Дубинина «История и трагедия советской генетики»: «Д. К. Беляев <…> в согласии с мичуринским учением писал: “Академик Т. Д. Лысенко, разработавший учение о жизненности, указывает, что отрицательные последствия родственного разведения могут быть значительно снижены при воспитании спариваемых особей в разных условиях. Это указание имеет большое значение и должно получить практическое использование в работе звероводческих хозяйств”.
Д. К. Беляев признавал правильным принцип об адекватном (направленном) наследовании приобретенных признаков, считая, что для управления наследственностью организмов большое значение имеет теория стадийного развития Лысенко» [7. С. 179].
П. Джозефсон выдвигает ряд спорных положений относительно фигуры первого директора Института цитологии и генетики Н. П. Дубинина. Говоря о жизненном пути Николая Петровича, он, в частности, указывает: «В период расцвета лысенковщины Дубинин нашел тихое место в Алма-Ате, а затем в
Институте леса на Урале, директор которого, академик Сукачев, генетик по специальности, позволил ему заниматься генетикой птиц» [1. P. 93]. Автор умалчивает обо всей деятельности Н. П. Дубинина по противодействию лысенковщине в 30–40-е гг., которая закончилась отстранением его от работы постановлением Президиума АН СССР в августе 1948 г. после знаменитой сессии ВАСХНИЛ. Данный сюжет нашел яркое описание в мемуарах Н. П. Дубинина [8. C. 248–274]. Вызывает недоумение и упоминание Алма-Аты, где Н. П. Дубинин работал в 1942–1943 гг. в составе эвакуированного Института экспериментальной биологии, а не скрывался от лы-сенковцев.
Кроме того, исследователь дает излишне категоричную оценку деятельности Н. П. Дубинина, как директора ИЦиГ: «Действительно, своим невниманием он более навредил институту в период становления, чем Хрущев и лысенковцы с их непрерывными попытками закрыть учреждение» [1. P. 94]. Надо сказать, что приведенная версия весьма сомнительна, хотя и содержит долю истины. Так, 8 мая 1959 г., выступая на партийном собрании института, секретарь партийной организации Ю. П. Мирюта отметил «своеобразный неровный характер работы в институте, по той причине, что директор бывает наездами и с его приездом все кругом превращается в горячку, вызывается большая нервозность, выбивающая из колеи большинство из коллектива» 4.
Вместе с тем важно учитывать, что негативные оценки личности Н. П. Дубинина нашли отражение в ряде публикаций. В частности, известный исследователь истории отечественной биологии В. Н. Сойфер посвятил Николаю Петровичу одну из своих работ, где подверг его резкой критике [9].
Далее П. Джозефсон продолжает свою мысль: «Несмотря на лучшие намерения Лаврентьева и заботу, которой он окружил институт, длительные отсутствия Дубинина облегчали лысенковцам и их представителям в Министерстве сельского хозяйства возможность вмешиваться в работу генетиков. Много лет институту отказывали в его собственном здании и экспериментальном участке» [1. P. 94]. Необходимо отметить, что здания и экспериментального участка у Института цитологии и генетики долгое время не было и после снятия и отъезда Н. П. Дубинина. Сменивший его на посту директора Д. К. Беляев вынужден был достаточно жестко поставить этот вопрос, выступая в 1961 г. на проходившем в Новосибирске Общем собрании Академии наук 5.
В работе представлена распространенная версия о многочисленных комиссиях, проверявших институт, и делается следующий вывод: «Комиссии неизменно повторяли приговоры «не виновны», но Лысенко и Хрущев не успокаивались» [Ibid. P. 95]. Данное утверждение вряд ли соответствует истине, тем более что далее автор фактически противоречит сам себе. Повествуя о наиболее известной комиссии, проверявшей ИЦиГ в январе 1959 г., он, склоняясь к популярной точке зрения, утверждает: «Комиссия под руководством лысенковца М. А. Ольшанского, одного из ведущих академиков ВАСХНИЛ, прибыла в Новосибирск с намерением изменить профиль института или даже закрыть его» [Ibid. P. 96].
Весьма характерно и описание «развязки» этой истории: «Члены комиссии собрались вместе с ведущими учеными Академгородка в кабинете Лаврентьева, для того чтобы обсудить результаты проверки. Неожиданно на столе у Лаврентьева зазвонил кремлевский телефон. Он ответил на звонок следующим образом: “Да, не могу с Вами не согласиться”. И затем, после паузы, добавил: “Вы правы, мы решим вопрос положительно”. Он повернулся к членам комиссии, говоря: “Я полагаю, ваша работа закончена” [Ibid.].
Данная «история с телефоном», описываемая во многих воспоминаниях, в немалой степени основана на устной информации, которая не совсем ясна. Распространенная версия заключается в том, что якобы М. А. Лаврентьев в присутствии комиссии разговаривал по телефону, сделав вид, что на проводе ЦК КПСС. Слушавшие этот разговор сделали вывод, что в Москве положительно относятся к Институту цитологии и генетики, и комиссия была вынуждена уехать ни с чем. Эту версию излагает супруга Д. К. Беляева С. В. Ар-гутинская [2. С. 89], об этом говорит в своих воспоминаниях академик В. К. Шумный, до недавнего времени возглавлявший ИЦиГ. Более того, В. К. Шумный вставляет в данный сюжет С. А. Христиановича, с которым, якобы, беседовал М. А. Лаврентьев, изображая разговор с Москвой [11. С. 102].
Несколько по иному эта история приводится в публикации сотрудника Института цитологии и генетики О. В. Трапезова. Если в предыдущих работах утверждалось, что комиссию обескуражила изображенная М. А. Лаврентьевым положительная оценка ИЦиГ со стороны ЦК, то здесь все предстает с точностью до наоборот и в еще более наивной форме. Согласно версии названного автора, М. А. Лаврентьев, разговаривая по телефону, стал утверждать, что у комиссии положительное мнение о работе ИЦиГ. После этого комиссии ничего не оставалось, кроме как уехать ни с чем [10. С. 71].
Видимо, некий «случай с телефоном» имел место, однако, непонятно, какой реальный факт стал основой для всех этих рассказов. Столь же проблематично определить, в какой мере подобного рода «фокус» мог повлиять на решение столь сложного вопроса…
Нельзя согласиться и с мнением П. Джозефсона о выводах комиссии: «Комиссия сделала заключение, что “коллектив института работает не только хорошо, но и более того, с большим усилием, с большим энтузиазмом”» [1. P. 96]. Характерно, что здесь автор ссылается на письмо Н. П. Дубинина Н. С. Хрущеву, написанное летом 1959 г. Действительно, если мы обратимся к тексту письма, то обнаружим, что результаты проверки преподносятся следующим образом: «В докладе комиссии об итогах работы на заседании Бюро Президиума СО АН СССР все темы были признаны обоснованными и актуальными. Отмечалось наличие большого числа тем, связанных с практикой. В заключение заседания председатель комиссии П. А. Генкель заявил, что коллектив института работает не только хорошо, но более того, он работает с высоким напряжением, с высоким энтузиазмом» 6. Между тем, рассматривая стенограмму совещания Бюро Президиума СО АН СССР и Биологической комиссии из ЦК КПСС, можно сделать вывод о том, что Николай Петрович несколько «скорректировал»
реальные факты 7. Возможно, он полагал, что Н. С. Хрущёв не знал всех подробностей работы этой комиссии.
Говоря о коллективе института и ссылаясь на интервью с В. К. Шумным, П. Джозефсон отмечает: «Многие вступили в партию, чтобы через это защищать генетику» [Ibid. P. 97]. Версия о «коллективном» вступлении в ряды КПСС в какой-то мере подтверждается в сборнике воспоминаний о Д. К. Беляеве в мемуарном фрагменте, упоминавшем В. К. Шумного: «В самые тяжелые для института времена он собрал группу молодых сотрудников и сказал: “Судьба науки и института во многом решается в партийных органах. Для них очень важно мнение партийной организации института, идите в партию и формируйте это мнение”. Так стали членами партии В. И. Евсиков, А. Д. Груздев, Е. Д. Будашкина и другие, в том числе и я» [12. С. 84].
Тем не менее в партию вступили далеко не все, партийная организация института в рассматриваемый период была небольшой и, скорее всего, особым влиянием не пользовалась. Возможно, некритичное заимствование приведенной версии побудило исследователя к следующим выводам: «Партийная организация института быстро росла. В конце 1958 г. в ее составе была лишь приблизительно дюжина членов, но уже в июле 1959 г. двадцать пять коммунистов собрались, чтобы обсудить программу исследований института в свете недавней отставки Дубинина. В 1964 г. в партийной организации института состояло сорок пять сотрудников, а к середине 1965 г. их было уже шестьдесят» [1. P. 97]. Нам представляется, что приведенные цифры вряд ли свидетельствуют о значительном росте числа коммунистов.
Далее П. Джозефсон допускает еще одну существенную неточность: «Только один сотрудник института, Б. А. Липский, последовательно защищал Лысенко» [Ibid.]. Вызывает недоумение, что заведующий отделом науки и школ Новосибирского обкома Б. А. Липский 8 был «зачислен» автором в штат Института ци- тологии и генетики. В нашем распоряжении имеются документы об открытом партийном собрании института, проходившем 9 июля 1959 г. в его присутствии. На рассматриваемом собрании Б. А. Липский подчеркнул, что «серьезные замечания по работе Дубинина были сделаны и раньше». Отметив отсутствие у института поводов для «зазнайства» по поводу результатов его работы, он утверждал: «Я надеялся, что сегодня партийное собрание прямой и товарищеской критикой поможет Н. П. Дубинину, но этого не было» 9. Подобные заявления Б. А. Липского, ранее в ряде сходных ситуаций зарекомендовавшего себя в качестве последовательного консерватора, могли быть своего рода «пробным камнем» со стороны Новосибирского обкома, который в целом занимал выжидательную позицию.
Повествуя о том, как над Институтом цитологии и генетики «сгущались тучи», автор выдвигает странное утверждение: «И что еще хуже, Новосибирский обком все больше завидовал материальному положению Академгородка и личным связям между Лаврентьевым и Хрущевым» [1. P. 98]. Как известно, в 1959 г. Академгородка, в сущности, еще не было. В связи с этим можно напомнить, что в указанный год было построено только 4 дома, и основная часть сотрудников жила в Новосибирске, где располагалось подавляющее число институтов, в том числе и Институт цитологии и генетики.
Кроме того, касаясь проблемы снятия Н. П. Дубинина, П. Джозефсон отмечает: «В конце концов, Хрущев возненавидел и Дубинина и генетику» [Ibid.]. Данное утверждение представляется недостаточно четким, учитывая то, что Н. С. Хрущёв всегда относился к генетикам негативно.
То же самое можно сказать и в отношении следующего высказывания автора: «Дубинин шей в 1958 г. якобы нелегальной студенческой организации «НОКА». Вот что говорил по этому поводу секретарь Новосибирского обкома комсомола И. А. Лихачев: «Вызывает меня т. Липский, закрывает все двери. Рассказывает, что обнаружилась чуть ли не контрреволюционная организация. А когда рассказал более подробно, то там было то, что в докладе сказано. Я говорю т. Липскому: “Разрешите мне собрать комсомольское собрание, поговорить”. – “Что ты, никому не говори фамилии, иди в обком и жди команды”. Мне кажется, что нам надо пойти к молодежи, а не так по углам шептаться» (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 1767. Л. 64).
полагал, что только он один мог управлять институтом, и что после его отъезда он должен быть закрыт. Он фактически начал критиковать и институт и Беляева» [Ibid.]. Надо сказать, что у приведенной версии есть свои сторонники. Так, в интервью с автором данной статьи научный сотрудник ИЦиГ с 1957 г. доктор биологических наук, профессор И. И. Кикнадзе отмечала, что когда Н. П. Дубинин уехал, он был так оскорблен увольнением, что «отрезал» от себя институт и перестал встречаться с его сотрудниками, отвечая только на частные открытки. Постепенно Дубинин стал «злейшим врагом» ИЦиГ. Он постоянно говорил, что Д. К. Беляев не тот, кто нужен на посту директора» 10.
Вместе с тем следует учитывать, что Н. П. Дубинин критиковал, прежде всего, концепцию Д. К. Беляева, в особенности, ее евгенические элементы, что необходимо рассматривать как научное противостояние. В этой связи характерно свидетельство С. В. Ар-гутинской: «Дубинин считал, что духовное содержание человека относится к его надбиологической сфере, которая не записана в генах. Отвечая Н. П. Дубинину, ДК отмечал, что человек не исключен из сферы генетической детерминации, люди неодинаковы в потенциальных возможностях психики и интеллекта. Они различны уже при рождении, поскольку фундаментальные законы наследственности едины для всего живого, включая и человека» [3. С. 63].
Что касается Д. К. Беляева, то здесь П. Джозефсон также дает излишне однозначную характеристику его личности. В частности, повествуя о судьбе другого известного биолога Н. Н. Воронцова, он утверждает: «Воронцов предпочел работу в Президиуме Сибирского отделения напряженной атмосфере Института цитологии и генетики под руководством “Наполеона” Дмитрия Беляева. Беляев, не желавший иметь конкурента, давал отпор попыткам Ляпунова пригласить Тимофеева-Ресовского в институт. Впоследствии на выборах в академики он выступил против кандидатуры Тимофеева-Ресовского, представленной от его института. Беляев также старался ограничить Воронцова путем перевода его группы под юрисдикцию лаборатории Раисы Берг» [1. P. 91]. Как видим, автор серьезно критикует Дмитрия Константиновича, называет его «Наполеоном», но при этом никак не комментирует появление данного «ярлыка». Однако столь резкая оценка фигуры второго директора ИЦиГ является лишь одной из версий, которая, впрочем, имеет под собой некоторые основания.
Тем не менее в воспоминаниях современников о Д. К. Беляеве преобладают весьма высокие оценки, примером чего является упоминавшийся сборник «Дмитрий Константинович Беляев» [3; 12]. Не расходится с этим и мнение М. А. Лаврентьева, который писал о Д. К. Беляеве: «Он стал великолепным директором института, крупным ученым и организатором науки» [6. С. 152].
Редким примером противоположной оценки являются мемуары Р. Л. Берг «Суховей», а также воспоминания бывшего президента клуба «Под интегралом» А. И. Бурштейна [4; 5].
Следует также обозначить неточность П. Джозефсона в вопросе назначения Д. К. Беляева на должность директора: «Временный директор Юрий Яковлевич Керкис, несмотря на преимущества по сравнению с Дубининым, своим властным организаторским стилем заставил сотрудников отвернуться от него. Беляев, директор с 1961 г. и до его смерти в 1985 г., умело вел институт через политические, финансовые и научные трудности» [1. P. 103]. Как известно, Ю. Я. Кер-кис никогда не стоял во главе института, в то время как Д. К. Беляев стал исполняющим обязанности директора 12 октября 1959 г. решением Бюро Президиума СО АН одновременно со снятием Н. П. Дубинина 11.
Симптоматично и отношение П. Джозефсона к некоторым другим ученым. В частности, секретаря партийной организации ИЦиГ и крупного специалиста по генетике растений Ю. П. Мирюту он, никак не аргументируя, называет «сталинистом до глубины души» [Ibid.].
Таким образом, в исследовании П. Джозефсона мы обнаруживаем ряд неточностей, которые, впрочем, не носят принципиального характера и не могут девальвировать значительную ценность работы, ставшей важным шагом в изучении поставленной проблемы.
Вместе с тем их наличие еще раз подтверждает актуальность появления специального исторического исследования сложного процесса возрождения генетики в Новосибирском научном центре.