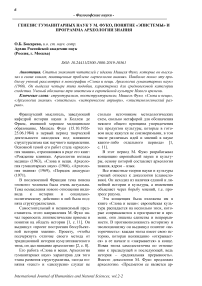Генезис гуманитарных наук у М. Фуко, понятие "эпистемы" и программа археологии знания
Автор: Бокарева О.Б.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 2-2 (29), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья знакомит читателей с идеями Мишеля Фуко, которые он высказал в своих книгах, посвященных проблеме «археологии знания». Наиболее полно эту проблему ученый рассмотрел в монографии «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» (1966). Он выделил четыре типа подобия, характерных для средневековой категории сходства. Ученый обозначил три эпистемы в европейской культуре Нового времени.
Структурализм, постструктурализм, мишель фуко, "слова и вещи", "археология знания", "эпистема", "историческое априори", "эпистемологический разрыв"
Короткий адрес: https://sciup.org/170185986
IDR: 170185986 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10561
Текст научной статьи Генезис гуманитарных наук у М. Фуко, понятие "эпистемы" и программа археологии знания
Французский мыслитель, заведующий кафедрой истории науки в Коллеж де Франс, имевший хорошее медицинское образование, Мишель Фуко (15.10.192625.06.1984) в первый период творческой деятельности находился под влиянием структурализма как научного направления. Основной темой его работ стала «археология знания», отразившаяся в ряде его книг: «Рождение клиники. Археология взгляда медика» (1963), «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» (1966), «Археология знания» (1969), «Порядок дискурса» (1971).
В послевоенной Франции тема поиска «нового» человека была очень актуальна. Тема осмысления нового отношения индивида к истории и социальнополитическому действию в ней была поднята структуралистами.
Самостоятельный и независимый представитель этого направления М. Фуко начал переносить лингвистические приемы и понятия на область истории [1, с. 11]. Он выдвинул «проект построения бессубъектной истории знания». Проекту, «чтобы подчеркнуть отличие своего метода от традиционной истории кумулятивистского типа, он дал название археология» [2, с. 8].
Его работа «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» характерна для того этапа развития структурализма, «когда понятия «текст» и «дискурсия» служат не столько источником методологических схем, сколько метафорой для обозначения некоего общего принципа упорядочения тех продуктов культуры, которые в готовом виде кажутся не соизмеримыми, в том числе различных идей и мнений в науке какого-либо отдельного периода» [1, с. 11].
В этот период М. Фуко разрабатывал концепцию европейской науки и культуры, основу которой составляет археология знания, ядром - язык.
Все известные теории науки и культуры ученый относил к доксологии (славословию). Он исходил из наличия единой и линейной истории и культуры, а изменения объясняет через борьбу мнений, т.е. прогресс разума.
Эта концепция была изложена им в книге «Слова и вещи»: европейская культура распадается на несколько эпох, которые соприкасаются в пространстве и времени, они лишены единства и непрерывности. В противоположность историзму и эволюционизму он выдвинул понятие «историчность»: каждая эпоха имеет свою историю, которая неожиданно «открывается» в ее начале и «закрывается» в конце. Новая эпоха самодостаточна по отношению к предыдущей и последующей, ведь история - «радикальная прерывность». Вместо доксологии М. Фуко предложил археологию. «Предметом ее является ар- хеологический уровень, который делает возможным познание и способ бытия того, что надлежит познать».
Глубинный уровень – «эпистема» («историческое априори», «пространство знания», «эпистемологическая диспозиция»). В книге ученого прослеживается влияние идеи об «эпистемологических разрывах», разрывах в знании, идеи М. Хайдеггера о необходимости вопроса о бытии и его структуре. Эпистемы не связны и не зависят от субъекта. Они находятся в сфере бессознательного и остаются недоступными для тех, мышление которых они определяют.
Подзаголовок работы «Слова и вещи» – «Археология гуманитарных наук»: исследования исторически изменяющихся структур («исторические априори»), которые определяют условия возможности мнений, теорий и наук в каждый исторический период. Это – изучение эпистем [1, с. 12-26].
Фуко М.противопоставил «археологию», которая вычленяет эти структуры (эпистемы), историческому знанию куму-лятивистского типа, которое описывает те или иные мнения, не выясняя условий их возможности. Основной упорядочивающий принцип внутри каждой эпистемы, по М. Фуко, – это соотношение «слов» и «вещей».
В начале ученый выделил четыре типа подобия, характерных для средневековой категории сходства, «которая играла конструктивную роль в знании в рамках западной культуры»:
-
1. пригнанность – «вещи, которые сближаясь, оказываются в содействии друг с другом – сходство, связанное с пространством – отношением «ближнего к ближнему», выражающее соединение и слаженность вещей. … Мир – всеобщая «пригнанность» вещей»;
-
2. соперничество – «вид соответствия, свободного от ограничений, налагаемых местом, неподвижного и действующего на расстоянии (вещи, рассеянные в мире)»;
-
3. аналогия – «совмещение пригнанно-сти и соперничества. … Посредством аналогии могут сближаться любые фигуры мира»;
-
4. симпатия – «свободно действует в глубинах мира; начало подвижности; обладает опасной способностью уподоблять, отождествлять вещи, лишать их индивидуальности».
При этом «знание подобий основывается на определении примет и на их расшифровке. Система примет переворачивает отношение видимого к невидимому» [3, с. 54-56, 63].
Затем М. Фуко вычленил в европейской культуре Нового времени три эпистемы:
-
1. ренессансная (XVI в.): слова и вещи в ней тождественны друг другу, непосредственно соотносимы друг с другом и взаимозаменяемы (слово-символ). Эта эпистема основана на сопричастности языка миру и мира языку, на разнообразных сходствах между словами языка и вещами мира. Слова и вещи образуют единый текст, который является частью мира и природы и может изучаться как природное существо. Ренессансное знание – это связанная система, подчиняющаяся собственным строгим законам;
-
2. эпистема классического рационализма (XVII-XVIII вв.): слова и вещи лишаются непосредственного сходства и соотносятся опосредовано – через мышление, в пространстве представления (слово-образ). Слова и вещи соизмеряются друг с другом в мыслительном пространстве представления посредством тождеств и различий. Главная задача классического мышления – это построение всеобщей науки о порядке, что порождает тенденцию к математизации знания, к образованию самостоятельных дисциплин: «всеобщая грамматика», «естественная история», «анализ богатств». Инструментом всеобщей науки о порядке выступают системы искусственных знаков. Это позволяет ввести в познание вычисления, таблицы. Язык теряет свое непосредственное сходство с миром вещей, но приобретает право представлять и анализировать мышление;
-
3. современная эпистема (конец XVIII в. / начало XIX в. – н.в.): слова и вещи опосредованы «языком», «жизнью», «трудом», вышедшими за пределы пространства представления (слово-знак в системе знаков). Язык замыкается в самом себе.
Потом М. Фуко резюмировал: современная научная доминанта возникает на месте бывшей философской, а современная философская – на месте бывшей научной. Конец классической эпистемы означает появление новых объектов познания (жизнь, труд, язык), что создает возможность появления современных наук (биологии, политэкономии, лингвистики). Если в классической эпистеме основным способом бытия предметов познания было пространство, то в современной эпистеме это – время (основным способом бытия предметов познания становится история). Характерная черта современной эпистемы – это появление жизни, труда, языка в их собственном бытии, законы которого не сводимы к логическим законам мышления. Вследствие этого на месте классического обмена богатствами появляется экономическое производство – труд, определяемый реальной нуждой производителя.
В первом параграфе десятой главы «Трехгранник знания» М. Фуко представил систему гуманитарных наук, исходя из понятия «бытия» [3, с. 364-368, 374-392].
Установленный в современном мышлении способ бытия позволяет ему иметь две роли: являться обоснованием всех позитивностей и присутствовать на рядовом положении в стихии эмпирических вещей, что значительно для «гуманитарных наук». Объектом гуманитарных наук, по Фуко, является человек и все то, что в нем есть эмпирического. Эпистемологическое поле, которое охватывают гуманитарные науки, не дано им заранее. Эти науки появились в тот момент, когда в западной культуре появился человек как предмет осмысления и познания. Исторически возникновение каждой гуманитарной науки связано с какой-то проблемой. Это событие было результатом общей перестройки эпистемы: покинув пространство представления, живые существа поместились в глубине жизни со всей ее спецификой, богатства – во все большем развитии форм производства, слова – в становлении языков.
Начиная с XIX в. эпистемологическое поле разрывается в различных направлениях. Поле современной эпистемы, иссле- дуемое на археологическом уровне, не подчиняется идеалу совершенной математизации. Область современной эпистемы, согласно Фуко, нужно представлять как обширное открытое трехмерное пространство.
В одном из его измерений помещаются математические и физические науки, для которых порядок есть всегда дедуктивная и линейная последовательность самоочевидных или доступных верификации высказываний. В другом находятся гуманитарные науки, которые стремятся к такому упорядочиванию прерывных, но сходных элементов, чтобы те могли вступить в причинные отношения и образовать структурные постоянства. Между этими двумя измерениями находится некая общая плоскость, которая может быть либо полем применения математики к эмпирическим наукам, либо областью того, что в лингвистике, биологии и экономике поддается математизации. Третье измерение – это философская рефлексия, которая развертывается как мысль о Тождестве.
Гуманитарные науки «распылены» в трехмерном пространстве, что представляет для них внешнюю угрозу и внутреннюю опасность. Согласно Фуко, все сложности гуманитарных наук, их непрочность, их неуверенность в своей научности, их заигрывания с философией, их вторичный и производный характер – это их отношение к трем измерениям, в которых они находят свое собственное пространство.
История, по Фуко, возникает раньше гуманитарных наук. В современной эпи-стеме у человека нет истории, поскольку он живет, трудится, говорит, его бытие оказывается сплетением многих историй, которые ему чужды и неподвластны. С XIX в. обнаруживается человеческая историчность в ее открытой форме – человек зависит от обстоятельств. История показывает, что человек не является вневременным объектом знания, который в своих правах неподвластен времени. Человек в своей позитивности всегда выявляется, он сразу же становится ограниченным безграничностью истории.
В современном мышлении историцизм и аналитика конечного человеческого бы- тия противостоят друг другу. Историцизм всегда предполагает некую философию или методологию живого понимания. Анализ конечности человеческого бытия неустанно отстаивает то, что историцизм оставляет без внимания.
Характерной чертой современной эпи-стемы является ее отношение к проблеме человека. В современной эпистеме связь жизни, труда и языка привело к тому, что все осуществляется только в человеке и через него. Современный человек – единство эмпирического и трансцендентального. Человек не является «вещью среди вещей», он становится источником напряженного призыва к познанию и самопознанию, которое делает человека человеком. Соответственно на первое место выдвигается проблема познания самого себя.
Рамки современной эпистемы, открывающей человека в пространстве познания, простираются от Канта (возвестившего о начале «антропологической эпохи») до Ницше (возвестившего о ее конце). Кант говорил о грядущем пробуждении современности от «антропологического сна». Между человеком и языком в культуре устанавливаются отношения взаимодополняемости. Образ человека в современной культуре близок к исчезновению и, возможно, исчезнет, как «изображение, начертанное на прибрежном песке» (появление нового типа человека).
Монография М. Фуко критиковалась отчасти рядом ученых-структуралистов. Работы, написанные после «Слов и вещей» стали его ответом автора на критику.
В последующих работах М. Фуко исследовал понятия «дискурс», «дискурсивная практика» и «дискурсивное событие», которые означают до-концептуальный уровень знания [4, с. 323]. С помощью этих понятий ученый разрабатывал новую методологию для изучения культуры. Исходным материалом науки, искусства, литературы является «популяризация событий в пространстве дискурса». Суть дискурсивных событий составляют связи и отношения между высказываниями, означающими совокупность неких объективных правил, образующих «архив». «Архив» охватывает и хранит структуры и за- коны, которые управляют появлением высказываний как единичных событий.
Дискурсивные практики не совпадают с конкретными науками и дисциплинами, они «проходят» через них, придавая им единство. Не дискурсивные практики Фуко добавлял к дискурсивным, но не раскрывал их характер.
Цель «археологии знания» – в прояснении задач исторического (археологического) исследования культуры, которые ранее скрыто подразумевались. Для историка (археолога), согласно Фуко, нет в культуре ничего, заранее заданного: ни грани между объектами наук, ни соотношения наук с другими формами общественного сознания. Такие объекты, как «автор» или «произведение», не подразумеваются сами собой. Все факты, представляющиеся неделимыми, подвергаются делению и вписываются в контекст речевых или «дискурсивных» практик. «Дискурсия» у Фуко – это срединная область между всеобщими законами и индивидуальными явлениями, это область условий возможности языка и познания.
Позже отношение к науке у М. Фуко становится более скептическим и критическим (влияние постструктурализма и постмодернизма). Он стал критичнее относится к науке, выражал сомнение в ее рациональной ценности, склонялся к тому, чтобы «разрушить все то, что до настоящего времени воспринималось под именем науки» [4, с. 323-324].
М. Фуко осуществил целую серию историко-научных и историко-культурных исследований – «археологических раскопок» предыстории понятия человека в различных аспектах его биологического и социального бытия. Ведущая идея его «археологии знания» – не брать понятия как простые ярлыки для обозначения от века существующих и независимых от их восприятия в культуре данностей, но в ходе «культурологических раскопок» вскрывать их происхождение и законы функционирования. В мире культуры и социальной жизни нас окружает «среда, понятийно выстроенная». «Дискурс – это не жизнь, у него иное время, нежели у нас» [3, с. 280].
Список литературы Генезис гуманитарных наук у М. Фуко, понятие "эпистемы" и программа археологии знания
- Автономов Н.С. Мишель Фуко и его книга «Слова и вещи» // Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / [Вступ. ст. Н.С. Автономовой]; пер. с фр. В.П. Визгина. - СПб.: АОЗТ «Талисман», 1994. С. 7-27.
- Фурс В.В. Философия Мишеля Фуко и проблема человека во французском постструктурализме: автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. филос. наук. Минск, 1997. - 15 с.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / [Вступ. ст. Н.С. Автономовой]; пер. с фр. В.П. Визгина. - СПб.: АОЗТ «Талисман», 1994. С. 41-404.
- Философия: учеб. для студентов вузов / [В.В. Миронов и др.]; под общ. ред. В.В. Миронова. - М.: Норма, 2005 - XVI, 911 с.