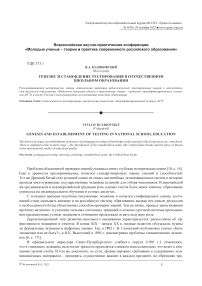Генезис и становление тестирования в отечественном школьном образовании
Бесплатный доступ
Рассматриваются исторические этапы становления практики педагогического тестирования знаний в отечествен ном школьном образовании. Отдельное внимание уделено современному этапу – введению стандартизированных экзаменов (ЕГЭ) и месту России в международных исследованиях качества образования.
Педагогическое тестирование, тестология, педология, стандартизированный экзамен, ЕГЭ
Короткий адрес: https://sciup.org/148332021
IDR: 148332021 | УДК: 373.1
Текст научной статьи Генезис и становление тестирования в отечественном школьном образовании
№ 4(99). 29 октября 2025 ■
Проблема объективной проверки знаний учащихся имеет глубокие исторические корни [10, с. 54]. Еще в древности предпринимались попытки стандартизировать оценку умений и способностей. Тот же Древний Китай стал родиной одних из самых масштабных экзаменационных систем в истории, проводя многоуровневые государственные экзамены (кэцзюй) для отбора чиновников. В европейской же средневековой и новоевропейской традиции роль единых тестов была менее заметна: образование строилось на индивидуальном обучении и устных диспутах.
С течением времени подобные письменные экзамены и попытки унифицировать оценку достижений стали оказывать влияние и на российскую систему образования, вызвав тем самым дискуссии о необходимости более объективных способов проверки знаний. Тем не менее, процесс заимствования протекал медленно: в условиях сильных сословных традиций и классно-урочной системы преподавания традиционные устные экзамены и сочинения продолжали играть ведущую роль.
Дореволюционный этап развития школьного оценивания характеризуется дискуссиями об эффективности экзаменов и отметок. В конце XIX – начале XX в. видные педагоги обсуждали, нужны ли формальные экзамены и цифровые оценки. Так, в 1892 г. В. Силовский опубликовал статью «Быть экзаменам или не быть?», а Н.К. Высотский в 1894 г. рассматривал проблемы гимназических экзаменов [6, с. 171].
В официальном циркуляре Санкт-Петербургского учебного округа (1901 г.) отмечалось, что в гимназиях экзамены на аттестат зрелости проводятся слишком снисходительно, что ведет к снижению уровня учебы. В том же документе, по сути, сформулировано требование к содержанию экзаменационных материалов - проверять «существенно важное в каждом предмете, не обременяя тре бованиями мелких подробностей». Это можно считать прообразом принципа валидности контроля знаний – идея, что испытание должно измерять главное, появилась еще тогда.
Несмотря на живые дискуссии, в дореволюционной России не было создано научно обоснованных тестов для школ: проверка знаний оставалась преимущественно субъективной, зависела от учителя и экзаменатора, а отметки выставлялись по разнородным стандартам. Известный педагог К.Д. Ушинский и его современники уделяли внимание улучшению качества преподавания, однако идеи стандартизированной оценки (в виде тестов) еще не оформились как отдельное направление научной работы. Отдельные прогрессивные учителя пытались вводить письменные опросы и практические задания, но системного подхода не существовало. К началу XX в. ситуация начала меняться под влиянием зарубежных идей.
Зарождение тестологии как науки на рубеже XIX-XX вв. связано с разработкой первых психологических тестов интеллекта. В 1905 г. А. Бине и Т. Симон создали стандартизированную шкалу для оценки умственного развития детей, введя понятия трудности заданий и валидности (сравнение с оценками учителей), а также унифицированные инструкции для тестирования. В США Дж. Кэт-телл, развивая идеи Ф. Гальтона, предложил «умственные тесты» с акцентом на сенсомоторные измерения, стандартные условия, ограничение времени и статистическую обработку данных [11, с. 91]. Эти принципы легли в основу современной тестологии. Таким образом, к 1910-м гг. на Западе сформировались основы теории тестирования, ставившей целью количественно измерять знания и способности учащихся.
В российской педагогической науке 1910-х - начала 1920-х гг. происходит постепенное знакомство с зарубежными идеями измерения способностей. После Октябрьской революции 1917 гг. молодое советское государство стремилось кардинально реформировать школу, отказавшись от «старорежимных» методов. В первые годы Советской власти даже отменили экзамены и отметки как пережиток царской школы - декретом Наркомпроса РСФСР 1918 г. было установлено, что успеваемость учащихся оценивается не баллами, а характеристиками и отзывами педагогического совета.
Радикальная мера фактически устраняла привычную систему контроля знаний. Однако уже к началу 1920-х гг. стало ясно, что отсутствие какой-либо объективной оценки затрудняет управление учебным процессом. На волне поисков новых методов появилась наука педология - комплексное учение о развитии ребенка, сочетавшее педагогику, психологию, физиологию. Л.С. Выготский определял педологию как науку о целостном развитии детской личности. Педологи активно интересовались зарубежными тестами интеллекта и достижений и пытались применять их в советских условиях. В 1925 г. при педагогическом отделе Института методов школьной работы была создана специальная Тестовая комиссия.
В ее задачу входила разработка стандартизированных тестов для советской школы на основе лучших зарубежных образцов. Уже весной 1926 г. эта комиссия выпустила первые комплекты тестов для школьников, адаптированные с американских прототипов. Были подготовлены тесты по различным предметам: природоведению, обществоведению, арифметическому счету, решению задач, знанию географической карты, пониманию прочитанного, правописанию.
К каждому тесту прилагалась подробная инструкция и карточка учета прогресса учащегося – прообраз современных индивидуальных отчетов. Разработкой тестовых методик в этот период занимались известные ученые: М.С. Бернштейн, П.П. Блонский, А.П. Болтунов, С.Г. Геллерштейн, Г.И. Зал-кинд, А.М. Шуберт и др. [11, с. 95].
П.П. Блонский – один из лидеров педологии – видел в тестах не только средство контроля, но и способ реформирования школы. Он прозорливо писал, что «тесты – это больше, чем средство контроля; это средство рационализации школьного дела» [2, с. 17]. В 1927 г. выходит труд С.М. Ва-силейского «Введение в теорию и технику психологического, педологического и психотехнического исследования» [3, с.27]. В этой работе систематизированы теоретические основы и практика разработки тестов, описаны статистические методы обработки результатов (корреляционный анализ и др.). По сути, это был первый учебник по методике составления опросников и тестов в СССР.
Казалось, тестовый метод имеет большие перспективы в советской школе: к концу 1920-х годов накоплен значительный эмпирический материал, проводятся эксперименты по тестированию учащихся.
Однако наступил драматический поворот. 1930-е годы в СССР ознаменовались изменением идеологического курса в педагогике. В условиях политизации образования в 1936 г. последовал официальный запрет педологии и тестирования [7, с. 4]. Постановлением ЦКВКП(б) и СНК СССР от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» было заявлено, что педология как наука оказалась идеологически вредной, а её методы (в частности тесты) – лженаучными и «буржуазными».
Все испытания детей, связанные с педологическими тестами, были прекращены. Тесты объявлялись нежелательными в советской педагогике на долгие десятилетия. После этого решения наступил длительный период «тестофобии»: любые попытки упоминать или использовать тесты в образовании пресекались. В педагогической печати 1940–50-х гг. публиковались лишь материалы о вреде тестов и недопустимости их применения.
Объективное экспериментальное изучение знаний учащихся фактически сошло на нет, что привело к тому, что советская педагогика середины XX в. утратила эмпирическую базу исследований.
Тем не менее полностью научная работа не прекратилась - некоторые психологи продолжали исследования в смежных областях (например, испытания под другими названиями). Известно, что отдельные энтузиасты хранили копии зарубежных тестов (например, теста Векслера) и пользовались ими неофициально в клиниках и исследованиях. Однако официально понятие тестирования в школе было вычеркнуто.
Иными словами, основной советский период (1936-1960-е) характеризуется подавлением развития тестологии. Школа вернулась к традиционным методам контроля: устным опросам, письменным проверочным и экзаменам, пятибалльной системе оценок. Методы были менее объективны и сравнимы, но вписывались в идеологические рамки. При этом отголоски старых педологических идей все же сохранялись скрытно: например, фактическое использование элементов тестирования под видом контрольных работ отмечалось в некоторых школах.
Лишь в 1960-е гг. началось медленное возвращение интереса к педагогическим измерениям. Оттепель в науке позволила вновь обсуждать вопросы объективного контроля знаний. С середины 1960-х в СССР стартовал следующий этап развития тестирования – этап возрождения интереса.
По некоторым данным, к 1969 г. Министерство просвещения уже разрешило ограниченное проведение тестов в экспериментах (совпало с развитием кибернетики и вычислительной техники): появилась идея использовать ЭВМ для обработки результатов обучающих программ и тестовых заданий.
В педагогической прессе 1960–70-х гг. аккуратно появляются статьи об объективном контроле знаний. Например, вводится термин «педагогические измерения» для научного обоснования оценки качества образования. Большую роль в реабилитации тестов сыграли работы В.С. Аванесова – одного из пионеров советской тестологии [1, с. 45]. Он и его коллеги в 1970-80-х гг. публиковали исследования по теории тестовых заданий и статистике измерений.
В частности, В.С. Аванесов разработал классификацию тестовых задач, методы оценки их сложности и надежности; под его редакцией выходили первые сборники научных статей по тестированию знаний. Тем не менее, вплоть до конца 1980-х гг. тесты в школах практически официально не применялись. Советские школьники по-прежнему сдавали экзамены в традиционной форме (устные ответы, сочинения), поступали в вузы через устные и письменные вступительные испытания.
Поворотным моментом можно считать конец 1980-х – начало 1990-х гг., период перестройки и последующего распада СССР. В этот короткий промежуток времени одновременно происходят два процесса: с одной стороны, кризис прежней системы образования требовал новых подходов к оценке (объективность, единые стандарты), с другой – стали доступны зарубежные достижения тестологии, произошла интеграция в мировое образовательное пространство.
Постсоветский этап (1990-е гг. – современность) характеризуется бурным развитием методов тестирования и их широким внедрением. В 1991 г. Россия присоединилась к Международной ассоциа- ции по оценке успехов в образовании (IEA), началось участие российских школьников в международных сравнительных исследованиях качества образования - таких как TIMSS (оценка знаний по математике и естественным наукам), PIRLS и PISA. Это потребовало приведения отечественных оценочных средств в соответствие с мировыми стандартами.
На фоне реформ образования 1990-х годов в России формируется понимание необходимости единого стандартизированного экзамена для школ. В среде педагогов и управленцев созревает идея Единого государственного экзамена (ЕГЭ) – универсального тестового экзамена при выпуске из школы, который одновременно служил бы вступительным экзаменом в вузы.
Целями введения ЕГЭ были обеспечение объективности и прозрачности оценки, а также равный доступ выпускников из разных регионов к вузам. Эксперимент по введению ЕГЭ начался в конце 1990-х: с 2001 г. ЕГЭ апробировался в ряде регионов РФ, а к 2009 г. стал обязательной формой выпускных экзаменов по всей стране. ЕГЭ представляет собой комплекс тестовых заданий разного типа (много вариантов с выбором ответа, задания с кратким числовым ответом, развернутые задания) по основным учебным предметам.
Его проведение централизовано: используются одинаковые задания и единые критерии оценки по всей стране, что позволило сравнивать результаты выпускников из различных школ и регионов на единой шкале.
Введение ЕГЭ, безусловно, является крупнейшим событием в истории отечественного тестирования: впервые с дореволюционных времен оценка знаний получила единую стандартизированную форму на национальном уровне.
Вокруг ЕГЭ сразу развернулись научные и общественные дискуссии. Сторонники подчеркивали демократизацию доступа в вузы и объективность: «ЕГЭ открыл путь в столичные вузы для способных ребят из глубинки» – отмечал ректор Высшей школы экономики Я. Кузьминов [6, с. 210].
Он метафорично сравнил ЕГЭ с зеркалом, отражающим уровень подготовки, и советовал «не разбивать зеркало, если недоволен отражением, а улучшать саму подготовку».
Действительно, единый экзамен выявил региональные и школьные различия: результаты ЕГЭ позволили сделать выводы о слабых местах школьной подготовки и тем самым подтолкнули к обновлению программ. Однако критики указывали на недостатки тестовой формы. Так, заслуженный педагог И.Ф. Шарыгин образно писал, что тесты «быстро образуют злокачественную опухоль в организме образования», если их множить без меры [12, с. 19]. Опасения вызывали формализация и натаскивание: противники ЕГЭ считают, что обилие заданий с выбором ответа стимулирует заучивание шаблонов, а неглубокое понимание. В научной статье И. Каневского (2011) ЕГЭ критиковался за то, что «нацеливает школу на замену комплексной учебно-воспитательной работы подготовкой к тесту», приводя к поверхностным знаниям [5, с. 78]. Также указывалось на стресс для учеников и риски при проверке развернутых ответов. Тем не менее, большинство исследований отмечает, что ЕГЭ достиг главной цели – повысил объективность оценки и прозрачность поступления. Согласно опросам, уже в первые годы доля студентов из сельских школ и отдаленных регионов в ведущих вузах возросла благодаря ЕГЭ, что подтверждает его демократизирующую функцию [8, с. 45].
Параллельно введению ЕГЭ, в 2000-е гг. развивалась система текущего мониторинга в школе с применением тестовых технологий. Появились централизованные диагностические работы и мониторинговые тесты (например, Всероссийские проверочные работы - ВПР). Созданы федеральные центры тестирования и оценки качества образования (Рособрнадзор, ФИПИ), которые разрабатывают банки тестовых заданий по стандартам. Российские школьники регулярно участвуют в международных тестах (TIMSS, PIRLS, PISA) [13, с. 105].
В профессиональном и высшем образовании тестирование также заняло прочное место: от вступительных испытаний до итоговой аттестации и независимой оценки квалификаций. Например, в вузах стали практиковаться компьютерные тесты для промежуточного контроля, в системе профобразования – тестовые квалификационные экзамены [9, с. 4087].
Таким образом, к современности Россия прошла долгий путь от неприятия тестов до полноценной культуры тестирования в образовании. Сегодня педагогическое тестирование рассматривается как неотъемлемый элемент системы оценки качества. Оно сочетает в себе научную обоснованность (психометрию, статистический анализ) и практическую пользу - быструю и массовую проверку знаний. Вместе с тем сохраняются вызовы: необходимо следить за качество тестовых заданий, их соответствием целям обучения, не допускать превращения обучения в натаскивание только на тесты.
Новейшие тенденции включают компьютерное адаптивное тестирование, когда задания подбираются под уровень ученика, а также использование искусственного интеллекта для автоматического анализа ответов.
Тестирование проникает и в младшие классы - для диагностических целей, и в систему повышения квалификации учителей. Разрабатываются альтернативные формы оценивания, дополняющие тесты – портфолио, проекты – чтобы обеспечить всестороннюю оценку компетенций.
От древних экзаменационных ритуалов до электронных тестов XXI в. – история педагогического тестирования демонстрирует постепенное движение к научно обоснованной, справедливой и прозрачной системе оценки в образовании. Россия внесла свой вклад в эту историю: преодоление «тестофо-бии» и создание ЕГЭ стали важными шагами на пути интеграции в мировое образовательное пространство и повышения качества подготовки учащихся.