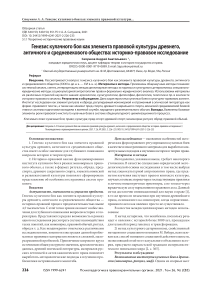Генезис кулачного боя как элемента правовой культуры древнего, античного и средневекового общества: историко-правовое исследование
Автор: Сапунков Андрей Анатольевич
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Общетеоретические и отраслевые проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 2 (85), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос генезиса кулачного боя как элемента правовой культуры древнего, античного и средневекового общества (XXXII в. до н. э. — XVI в. н. э.)
Кулачные бои, право, культура, пред-спорт, древний спорт, мононорма, ритуал, обряд, правовой обычай
Короткий адрес: https://sciup.org/149132200
IDR: 149132200 | УДК: 340.153; 340.154; 351.75 | DOI: 10.24412/1999-6241-2021-2-226-233
Текст научной статьи Генезис кулачного боя как элемента правовой культуры древнего, античного и средневекового общества: историко-правовое исследование
Актуальность, значимость и сущность проблемы . Генезис кулачного боя как элемента правовой культуры древнего, античного и средневекового общества — историко-правовой процесс продолжительностью свыше 4,5 тысячелетия. С этой точки зрения он имеет особое значение для глубинного понимания вопросов истории и теории права. Представляется редкая возможность в рамках одного исследования рассмотреть систему взаимодействия таких понятий, как мононорма, правовой обычай, ритуал, обряд и т. д. Как неоднократно отмечалось различными исследователями, именно иллюстрация данной проблематики правовым материалом является сложной, мало-разрешенной проблемой. Привлечение широкого круга источников общекультурного значения, археологических данных, древней эпической литературы, материалов русских летописей и актов канонического права позволяет выработать методологические подходы к изучению проблематики нетривиального масштаба.
Цель исследования — выявление особенностей исторических форм правового регулирования кулачных боев в качестве иллюстративного материала для выработки концептуальных подходов к изучению истории и теории права.
Материалы и методы
Методология, указанная выше, требует некоторого уточнения. В качестве специально-юридической методологической основы исследования в том числе выбран метод социокультурной антропологии права, где предметом изучения выступает право в контексте культуры, изучается генезис нормы через господствующие практики и личностноцентричные ориентиры, а не только через юридическую силу нормативного правового акта. Данный метод достаточно инновационный для науки о праве [1], в то же время он незаменим при изучении древнейшего права, основанного на мононорме, когда нормативноправового акта как явления просто не существовало.
В качестве междисциплинарных методов использованы:
-
1) метод историзма, что неизбежно, поскольку речь идет о явлении с историей более 5000 лет, прошедшем длительный период генезиса и трансформации;
-
2) метод культурного детерминизма, свойственный методологии социального познания М. Вебера, использован как способ познания социальной действительности, позволяющий отойти от казуального объяснения истории, присущего марксистской традиции материалистического понимания мира [2, с. 365].
Результаты и обсуждение
Возникновение института кулачных боев в древности (мононорма, ритуал, миф). Одним из спорных мест марксистской формационной теории [3] явилось учение о классовой природе происхождения права, ранние социальные регуляторы определялись как «доправо» или «предправо». Данный подход изначально подвергался критике еще во второй половине XIX в., существование «материнского» (das Mutterrecht) [4], «древнего» (ancient law) [5], «первобытного» [6] права в доклассовом обществе подтверждалось антропологическим материалом.
В настоящее время многими учеными, за исключением ряда сторонников либерально-юридического правопонима-ния [7, с. 10, 25], уже не оспаривается, что «каждой стадии развития социума должен соответствовать определенный уровень социального регулятора или группы регуляторов. На начальных этапах истории собственно человеческого общества в силу примитивности социальных отношений эту функцию выполняли недифференцированные синкретичные мононормы» [8, с. 93].
Представляется, что сложный характер ритуалов в рамках отношений, регулируемых мононормой, вряд ли обоснованно характеризовать как примитивный. Скорее, речь идет об иной форме правосознания, принципиально отличной и предшествующей современной, где превалируют отношения солидарности, а не индивидуальное или групповое (классовое) волеизъявление. «На стадии становления права синкретичная мононорма, всеобъемлющий социальный регулятор, не разделяла право, этику, религию и мораль в самостоятельные структуры» [9, с. 94]. Достаточно многочисленные следы материальной культуры прошлого указывают на кулачные бои как на один из древних правовых институтов, регулируемых мононормой.
Древнейшие изображения кулачных бойцов (боксеров) относятся к ритуалам, отраженным в переднеазиатском искусстве III тыс. до н. э., неоднократно обнаруженным в шумерских храмах раннединастического периода. Кроме того, подобное изображение сохранилось на ритуальном предмете похоронного обряда, найденном в 1898 г. при раскопках кургана Майкопской культуры в Адыгее. Древнейшее изображение кулачных бойцов на территории Российской Федерации датируется XXXII–XXIX вв. до н. э. и имеет явное сходство с современными ему шумерскими образцами. Предмет (крюк, трезубец) изготовлен из бронзы, которая для того периода была гораздо более ценным металлом, чем золото. В композиции бойцы расположены на рогах священного быка. Предмет не имеет утилитарного значения, и все указывает на его принадлежность к похоронному обряду [10]. Надо отметить и наличие другого памятника той же культуры и того же периода (возможно, древнее?), что и указанный нами трезубец. Речь идет о найденной в 1960 г. Майкопской плите. Камень, покрытый псевдоиероглифическими знаками, — это не только древнейший образец протописьменности на территории России, но и один из древнейших образцов в мире. К сожалению, обнаруженное «аушское» письмо не расшифровано [11], а единичный характер находки не позволяет говорить о наличии полноценной письменной культуры и не исключает возможности подделки [12].
Древний кулачный бой известен по памятникам Древнего Египта, например, три яруса изображений борцов на восточной стене гробницы Хнумхотепа I из некрополя Бени Хассана. «Этого сюжета эпоха Старого царства не знала, зато в гробницах Среднего царства [XXI–XVII вв. до н. э.] сцены из этого сюжета встречаются особенно часто» [13, с. 34–35]. В переднеазиатскую традицию укладываются и фрески крито-микенской культуры из дворца Миноса в Кноссе на о. Крит (XIX–XV вв. до н. э.), где одновременно присутствуют не только «боксирующие мальчики», но и ряд ритуалов с бычьими рогами [14, с. 130], в том числе знаменитая «таврокатасия» — смертельно опасные прыжки над рогами живого быка.
Другая древняя традиция возникает у индоевропейских народов (конец III тыс. – первая четверть II тыс. до н. э.), для нее характерен похоронный обряд с человеческими и конными жертвоприношениями, а также с конными состязаниями [15]. И. А. Кукушкина обращает внимание на невиданную «расточительность погребального обряда, неизвестную ни до, ни после, ни вне памятников синташтинского круга», по ее мнению, «текст из гимнов Ригведы синташтинцы стали фактически дублировать в натуральном виде» [16, с. 70], т. е. речь идет именно о мононорме, для которой ритуал служит формой проявления, а миф — предшественником «правового текста».
-
В. Н. Топоров объясняет смысл «спортивной» части похоронного ритуала индоевропейцев, «пред-спорта»: «…ситуация воспроизводит творение, поединок Демиурга с его хтоническим противником, победа, восстановление космической организации новой жизни» [17, с. 25]. Ритуал — это древнейшая форма социального регулирования, где нет места представлениям о добре и зле, рациональности, индивидуальности и законе. Ритуал — это способ обычного человека на короткий период сравняться с богами (духами), на время стать сотворцом миропорядка, творцом упорядоченной (правовой) действительности. В ритуале «человек — не борец и не укротитель природы, а некий толерантный свидетель пересечения нескольких миров божеств и земных духов» [18, с. 203].
Человеческие жертвоприношения у индоевропейцев фиксируются двух типов: 1) лицо из окружения покойного, жена-наложница [19; 20]; 2) пленники, далее рабы или придворные. Обряд сати — самоубийство (добровольное сожжение) жены в ходе похорон — известен по индуистской традиции, восходящей к священным текстам Ригведы (XVIII–XII вв. до н. э.) [21, с. 189–210], а также отмечен у древних русов арабским путешественником Ибн-Фадлана (X в. н. э.) [22, с. 42–44]. Обряд жертвоприношения пленных, рабов и придворных был особенно распространен в Китае в династии Шан-Инь (XVI–XI вв. до н. э.) в виде кровавого жертвоприношения «сюэцзи», а также закапывания и погружения в воду жертвы [23, с. 62]. В западноевропейской традиции убийство пленных было в Древнем Риме заменено их смертельным поединком — гладиаторскими боями (II в. до н. э.) [24].
Роль кулачных боев в раннее античное время (развитая мононорма, обряд, эпос). Описанная выше схема единства мононормы, ритуала и мифа видоизменяется в различных культурах конца II тыс. до н. э. Мононорма развивается и приобретает сложный, с элементами психо- логизма характер, благодаря двум новшествам: 1) ритуал усложняется до формы обряда; 2) миф получает стройное литературное оформление в виде эпоса.
-
1. В научной литературе ритуал и обряд нередко отождествляют, но между ними есть важные отличия. Как отмечает Т. В. Кашанина, «обряд как социальная норма относится не к внешней [ритуальной] форме поведения, а проникает глубоко в психику человека. Иначе, обряд регулирует не только внешнее поведение, но в какой-то мере уже связан и с содержанием регулируемого общественного отношения» [25, с. 187].
-
2. Миф дает возможность человеку принять участие в поддержании миропорядка, но эпос «расширяет горизонты». Будучи воспетым в эпосе, можно получить величие в памяти потомков, стать для них идеалом, героем из великого прошлого. По мнению великого русского ученого ХХ в. М. М. Бахтина, «абсолютное прошлое как предмет эпопеи и непререкаемое предание как единственный источник ее определяют и характер эпической дистанции» [26].
-
3. Современник не может быть героем эпоса, это всегда «преданья старины глубокой». С точки зрения права эпос не просто литература, а «правовой текст» с прецедентными нормами должного поведения лидера в условиях критической (героической) ситуации. Обычный человек и обыденное поведение эпос не интересуют.
Кулачный бой (безоружный поединок) как «пред-спорт» получил крайне широкое распространение и вошел в обрядовость множества народов мира. В данной работе для иллюстрации мы обращаемся к древнегреческому эпосу Гомера, но единоборство как «архити-пичный» эпический образ можно найти в Сказании о Гильгамеше, Рамаяне, Манасе, Калевале, Шахнаме и множестве других традиций. В эпическом сознании состязание (поединок) имеет не спортивный, а глубоко сакральный смысл: победитель не просто тренированный атлет, а символ силы и энергии своего народа.
Кроме того, символизм обряда более гибок, чем неуклонный к исполнению ритуал, что приводит к некоторому смягчению жестоких нравов. «Человеческие жертвоприношения, связанные с погребальными обрядами, практиковались у многих народов древности, но, например, для классической Греции они уже отошли в прошлое» [25, с. 72]. Особенность древнегреческой культуры в том, что две ритуальные традиции — переднеазиатская и индоевропейская — слились в одну, синтез порождает более сложную форму обрядовости. Человеческие жертвоприношения окончательно заменяются несмертельными, хотя и опасными соревнованиями в ходе тризны (похоронного обряда).
Эпоха Гомера — это предполисный период истории Древней Греции (XI–IX вв. до н. э.). Певец, воспевший
Элладу, повествуя о событиях Троянской войны (XIII– XII вв. до н. э.), описывает похоронные игры в поминовение Патрокла, где в поединке Эпей (Эпеос), создатель Троянского коня, побеждает «богу подобного» фиванца Эвриала:
«Стук кулаков раздается по челюстям; пот по их телу Льется ручьями; как вдруг приподнялся могучий Эпеос, Резко врага оглянувшегось грянул в лицо, — и не мог он Больше стоять; подломившися, рухнулись крепкие члены С поприща в стан повели, по земле волочащего ноги, Кровь извергавшего ртом и бросавшего голову набок».
(Гомер. Илиада. Песнь 23. Строфы 688-692, 696-697) 1.
Искусным кулачным бойцом у Гомера также назван царь Пилоса Нестор, прибывший под стены Трои уже старцем, но имевший ранее опыт побед над бойцами Клитомедом и Анкеем 2. Очевидно, что победы в значимых схватках имели особый социальный смысл и память о них сохранялась потомками. Герои эпоса — это «сверхлюди», выживающие там, где простой человек обречен на смерть.
В эпосе появляется также традиция поединка, не связанного с похоронной обрядовостью, — это «дуэльный» поединок героев перед, а иногда и вместо сражения, т. е. решение вопроса войны и мира через «суд божий». К таковым можно отнести безоружное единоборство участника похода аргонавтов, одного из братьев Диоскуров — Полидевка, сына Зевса, с Амиком — великаном, сыном Посейдона, царем бебриков 3. Эпическая библейская битва Давида и Голиафа — яркий пример того, как поединщик, не обладающий физической силой и вооруженный символически, одерживает немыслимую победу исключительно благодаря божественному провидению 4. Эпический «дуэльный» поединок имеет идеологию, сходную с присущей ордалиям, но для человека древности принципиальная разница в масштабе явления. Герои решают судьбу народов, а участники судебного процесса беспокоят божеств по поводу своей мелкой тяжбы.
Кулачные бои в период классической Греции и эллинизма (правовой обычай, феномен античного спорта). В эпоху классической Греции мононорма уходит в прошлое, ее наследие — ритуал, обряд, эпос — сохраняется, но трансформируется в новых условиях. Распад монормы на право, мораль, религию, этику и эстетику приводит к появлению источников права, в том числе наиболее раннего из них — правового обычая. Надо подчеркнуть, что монорма — это самая древняя форма права, не тождественная правовому обычаю, а предшествующая ему. Мононорма самодостаточна и создает свое особое правовое пространство. Правовой обычай — это элемент уже более современного типа правосознания, он способен сосуществовать и взаимодействовать с другими источниками права, в частности с нормативно-правовым актом.
Возникновение мононормы, потестарных племенных структур, мифологии, а также связанных с ней сложных ритуалов и обычаев — это единый достаточно древний культурный процесс. Следующий этап — это выделение правового обычая из мононормы, спорта из ритуала, театра из мистерии, греческой трагедии из эпической поэмы. Вновь разные явления связаны между собой, все они в совокупности лишь грани единого мощного культурного процесса.
Как уже отмечалось, древнегреческая культура — это синтез двух ритуальных традиций: индоевропейской и переднеазиатской. От индоарийцев пришли сама традиция похоронных игр и вид программы — гонки колесниц, от Ближнего Востока — кулачные бои, к ним добавились соревнования в беге, стрельбе из лука и метании диска, дротика. Таким образом, было сформировано «классическое пятиборье» — программа Больших игр Древней Греции: Олимпийских (с 776 г. до н. э.), Пифий-ских (с 582 г. до н. э.), Истмийских (с 581 г. до н. э.) и Не-мейских (с 573 г. до н. э.).
Большие игры — это уже следующий этап развития. Соревнование больше не связано с ритуалом похоронного обряда, это уже новое явление — спорт. Пред-спорт — это явление в рамках мононормы, действия, необходимые для поддержания миропорядка. Спорт древнеолимпийский — это уже система поддержания социального порядка, соревнования людей и ради людей. Спорт перестал быть явлением эсхатологическим, несоблюдение норм которого чревато апокалипсисом.
Однако спорт древнеолимпийский не спорт в современном понимании: в эпическом сознании победа не столько личное достижение атлета, сколько знак благоволения богов городу, его выставившему. Древний спорт сохранял сакральный характер, что обусловило его неприятие мировыми религиями, которые видели в нем проявление язычества. Запрет Олимпийских игр последним императором единой Римской империи Феодосием I в 393 г. н. э. стал закономерным финалом [27].
Кулачные бои в культурной традиции Средневековья Руси (былины). Русские былины созданы (XI– XVI вв.) намного позднее, чем поэмы Гомера. Однако былины тоже являются эпическими произведениями и развиваются по тем же принципам и сюжетам (архетипам), что и классический эпос. Например, в одной из ранних былин «О богатыре Василии Буслаевиче» герой по результатам собственной похвальбы идет на удалецкий «Великий заклад», обязуясь биться со всем Новгородом, и последующее событие: «…бой на Волховом мосту — это бой-состязание, кулачный бой, он происходит „в праздничек“, как и полагается кулачному бою» [28, с. 369].
Множество примеров единоборства связано с былинным циклом об Илье Муромце: борьба с Соловьем Разбойником, Поленицей, Сокольником, Жидовиной и др. 5 В былине «Илья Муромец и Жидовина» [29] описан сакральный бой с внезапно «наехавшим» степным богатырем; бой не людей, а миров; бой, в котором обычное оружие бесполезно, а важна только сила духа:
Впервые палками ударились, — У палок цевья отломалися, Друг дружку не ранили;
Саблями вострыми ударились, — Востры сабли приломалися, Друг дружку не ранили;
Вострыми копьями кололись, — Друг дружку не ранили;
Бились, дрались рукопашным боем Бились, дрались день до вечера, С вечера бьются до полуночи, Со полуночи бьются до бела света.
(Цикл: Илья Муромец и чужеземный богатырь — нахвальщик. Былина № 22: Илья Муромец на заставе богатырской.
Строфы 157–167) 6.
Аналогична схватка Ильи Муромца и Сокольника: Они тем боём друг друга не ранили.
А скакали молодчи тут со добрых коней,
А схватились крепким боём, рукопашкою,
(Цикл: Илья Муромец и чужеземный богатырь — нахвальщик.
Былина № 23: Рождение Сокольника, отъезд и бой с Ильей Муромцем. Строфы 200–203) 7.
Однако былины — это поздний эпос, когда слушатели в него уже почти не верят. В былинах отражается правовой обычай своего времени и отдаленный, слабо различимый намек на сакральное значение происходящего события. Былины — это литературный жанр, находящийся на грани перехода от могучего правящего миром эпоса к развлекательной волшебной сказке, все больше адресованной к детской аудитории [30]. Для средневекового русского человека кулачный бой все больше превращается в развлекательное действо, в элемент «удалецкой забавы». Сакральные корни явления неизбежно забываются, будучи вытеснены православным миропониманием.
Летописные русские источники, каноническое и княжеское законодательство об институте кулачных боев на Руси Х–XVI вв. В. В. Долгов на основании анализа источников по истории Древней Руси выделяет три формы единоборства, упомянутые летописно: 1) боевой поединок, предшествовавший битвам; 2) поединки «потешные»; 3) поединки судебные («поле») [31, с. 57].
-
1. Эпические библейские и былинные образы поединков перед сражением формально не содержат императивных либо рекомендательных правовых норм. Однако воспитанные в эпической традиции реальные люди нередко действуют сообразно именно данным нормам неписаного права. Подтверждение подобного поведения мы встречаем в летописных источниках.
-
2. Историк В. В. Долгов рассматривает «потешные» поединки в узком смысле, только с точки зрения прикладной тренировки в воинском искусстве. В более широком понимании кулачный бой — это народная забава, демонстрация «силы удалецкой», элемент праздника и ярмарки. Патриаршая (или Никоновская) летопись содержит первое упоминание о греховных развлечениях, трактуемых как народные гуляния с массовыми кулачными боями. В лето 6576 (1068 г.) «бо видим игрища утолчены и людей много множество, яко упихать начнут друг друга, позора деющи от бесом замышленного дела» 10.
-
3. Судебное единоборство, известное как ордалии («божий суд»), одна из форм поединка участников судебного процесса или их представителей («поле»). Поединок «поле» достаточно широко представлен в законодательных актах XIII–XVI вв., в том числе в договоре Смоленска с Ригой 1229 г., Псковской и Новгородской судных грамотах, «Записи о душегубстве» 1456–1462 гг., Белозерской уставной грамоте 1488 г., Судебниках 1497 и 1550 гг. и т. д. Однако все имеющиеся свидетельства указывают на то, что «поле» — поединок вооруженных людей, а не кулачный бой. Непосредственная угроза жизни рассматривалась как обязательное условие для получения не подтвержденных иным способом показаний доказательственной силы в суде [33]. Поле, как и потешные поединки, отвергалось церковью, наказание было в виде отлучения от церкви, запрета причастия и похорон за церковной оградой. Священник, причащавший или отпевавший участника «поля», тоже подлежал суровому для него наказанию — лишению сана 12.
В Лаврентьевской летописи отражены события в лето 6500 (992 г.) в районе брода реки Трубеж, где впо- следствии построен город Переяславль. На этом месте встретились дружина Великого князя киевского Владимира Святославовича (978–1015) и войско печенегов. Они договорились вместо сражения провести поединок сильнейших воинов, имена которых не названы. Хотя русский ратник по тексту и был «облачен в оружие», но действовал он физической силой. Поединщики крепко схватили друг друга, и русский ратник задушил печенега, после чего бросил тело о землю 8.
Еще один подобный случай описан в лето 6530 (1022 г.), когда под Тмутараканью (Тамань) встретились дружины русских и касогов. В бой вступили лично князья Мстислав Владимирович и Редедя, инициатором единоборства стал правитель касогов. Противники предварительно договорились «не оружием се бьемся, но борьбой». В ходе тяжелейшего боя Мстислав взывает к помощи Богородицы, но, получив благословение высших сил, сам поступает подло: бросив Редедю о землю, князь Мстислав зарезал соперника 9. Сюжет глубоко вошел в русскую культурную традицию. Например, можно вспомнить картину Н. К. Рериха «Единоборство Мстислава и Редеди» (1943), привезенную из Индии, с 1960 г. она находится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге.
В те времена, когда княжеское законодательство не упоминает о кулачных боях, запрет описанной «греховной» забавы формируется в XIII–XVII вв. в рамках канонического права. Церковный Собор 1274 г. указал: «Также видим бесовские обычаи, происходящие еще от треклятых эллинов, в божественный праздник позоры бесовские творить, со свистом, кличем, воплями, сзывающими скаредных пьяниц и бьющихся дрекольем до самой смерти и забирающих с убитых одежды» 11. Интересно, что Собор видит в кулачных боях отголосок древних греко-эллинских «Великих игр», в том числе Олимпиад. Историк церкви XIX в. П. В. Знаменский к проблеме подходит уже иначе. Он признает, что в удельное время до разделения митрополий (1458 г.) «существовали грубые потехи, например кулачный бой, на которых побивали людей до смерти», но для него это господствующие пороки местного происхождения, восходящие к славянскому язычеству [32, с. 153].
В то же время княжеское законодательство о потешных кулачных боях молчит. Светская власть лояльна к кулачным боям, поскольку данная «потеха» — необходимый элемент подготовки будущего воина. Обычай, полезный для государства и отрицаемый церковью, продолжает существовать на основе негласной к нему терпимости.
К началу XVI в. относятся свидетельства барона Сигизмунда фон Герберштейна, который дважды, в 1516 и 1526 гг., был в Москве в качестве посланника императоров из рода Габсбургов. В 1556 г. он опубликовал «Заметки о Московии», где писал: «…в праздничные дни молодые люди… по этому сигналу [свисту], они немедленно сходятся и вступают в рукопашный бой, стараются каким бы то ни было способом повалить друг друга, некоторых оттуда уносят мертвыми. Кто побеждает большее число противников, дольше останется на месте и мужественнее переносит удары, того хвалят перед другими, и он считается славным победителем. Этот род борьбы установлен для того, чтобы юноши привыкали сносить побои и переносить терпеливо всякие удары» [34, с. 80–81].
Обзор генезиса кулачного боя как элемента правовой культуры древнего, античного и средневекового общества позволил сформулировать следующие выводы:
-
1. Возникновение правового института кулачных боев восходит к глубокой древности. Он формируется как часть ритуала, регулируемого мононормой в рамках переднеазиатской культурной традиции.
-
2. В раннее античное время кулачные бои входят в дополисную традицию Древней Греции в качестве похоронного обряда (тризны), заменив собой человеческие жертвоприношения. В данном качестве кулачные бои описаны в эпосе Гомера.
-
3. В период классической Греции и эллинизма кулачные бои регулируются правовым обычаем и в данном качестве входят в программу «Великих игр», перейдя в статус спорта, но сохранив сакральное значение.
-
4. В средневековый период истории Руси о традиции кулачных боев свидетельствуют упоминаниях их в былинах, но обычай постепенно утрачивает сакральное значение и превращается в элемент развлекательной культуры.
-
5. Летописные русские источники средневековой Руси упоминают об институте кулачных боев как о «дуэльном» воинском поединке перед сражением и форме народной забавы, осуждаемой церковью, но не запрещае-
- мой княжеской властью. Отмечается важность кулачных боев с точки зрения военной подготовки молодежи.
-
6. Судебный поединок (ордалии) не может быть отнесен к кулачным боям, поскольку представлял собой вооруженное единоборство.
Перспективы. В дальнейших исследованиях по этой теме возможен более детальный анализ правовых аспектов и значения системы кулачных боев как разновидности поединка без оружия. Перспективным представляется изучение института кулачного боя в традициях различных народов мира с учетом появления нового археологического, этнографического, лингвистического материала, имеющего правовое содержание. Кроме того, ближайшей перспективой является опубликование автором статьи, продолжающей тематику, посвященную запретам и регулированию кулачного боя в законодательстве Российской империи XVIII — начала XX вв.
Список литературы Генезис кулачного боя как элемента правовой культуры древнего, античного и средневекового общества: историко-правовое исследование
- Социокультурная антропология права : коллективная монография / под ред. Н. А. Исаева, И. Л. Чеснова. СПб., 2015. 840 с.
- Вебер М. Объективность социально-научного и социально-политического познания // Избранные произведения / общ. ред. Ю. Н. Давыдов. М., 1990. 804 с.
- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Полн. собр. соч. в 50 т. М., 1961. Т. 21. С. 23–178.
- Bachofen J. J. Das Mutterrecht. Stuttgart, 1861. 492 s.
- Maine H. S. Ancient law: its connection with the early history of society and its relation to modern ideas. 8. ed. London, 1880. 415 р.
- Ковалевский М. М. Первобытное право. М., 1886. Вып. 1, 2. 339 с.
- Сухолинский П. Р. Право в догосударственных социальных системах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 30 с.
- 8 Шепталин А. А. Теория мононормики в дискуссии о происхождении права: pro et contra // Государство и право. 2017. № 4. С. 90–93.
- Муромцев И. Г. Мононорма как стадия становления права // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 3. С. 93–96.
- Трифонов В. А., Шишлина Н. И., Лобода А. Ю., Хвостиков В. А. Крюк с изображением сцены кулачного поединка из дольмена Майкопской культуры, станица Царская, Северо-Западный Кавказ // Краткие сообщения института археологии. 2018. № 251. С. 25–42.
- Крупнов Е. И. О загадочной майкопской надписи // Вопросы истории. 1964. № 8. С. 209–211.
- Машков Г. А. Майкопская плита: проблемы интерпретации артефакта как протописьменной системы // Ars Historica : сб. науч. статей. Архангельск, 2019. С. 114–119.
- Горбачева Ю. Г. Декоративное оформление гробницы Хнумхотепа I // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 16. С. 7–44.
- Никулина Н. М. Женское божество в искусстве Древнего Крита // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2011. № 2. С. 119–136.
- Сотникова С. В. Образ колесницы и колесничего в ритуальной практике населения эпохи бронзы Евразийских степей: опыт реконструкции ритуала и представлений // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 380. С. 102–108.
- Кукушкина И. А. Культурно-исторические истоки и наследие Синташтинской культуры // Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии : сб. науч. тр. Челябинск, 2018. С. 62–81.
- Топоров В. Н. Конные состязания на похоронах // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Погребальный обряд : сб. науч. статей / отв. ред. В. В. Иванов, Л. Г. Невская. М., 1990. 256 с.
- Сахилтарова Н. Г. Понятие «современность» и ритуал в традиционной культуре // Вестник Башкирского университета. 2013. Т. 18, № 1. С. 203–206.
- Сотникова С. В. О семантике парных погребений Андроновской эпохи // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. 2013. № 6. С. 36–49.
- Сотникова С. В. Парные разнополые погребения Андроновской (Федоровской) культуры юга Западной Сибири // Археологический вестник. 2020. № 26. С. 111–116.
- Пандей Р. Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи) / пер. с англ. А. А. Вигасина. М., 1990. 319 с.
- Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Харьков, 1956. 347 с.
- Кучера С. Р. Из истории духовной жизни Древнего Китая. Жертвоприношения // Общество и государство в Китае. 2016. Т. 46, № 2. С. 59–126.
- Давыдов А. А. Зрелищные и иные смыслы гладиаторских боев: стадия генезиса // Научный поиск. 2014. № 2.4. С. 72–73.
- Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. М., 2004. 325 c.
- Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 447–483.
- Нестеров П. В. Культурно-историческое значение и смысл Константинопольского эдикта Феодосия I Великого (393 г. н. э.) о «запрете» Олимпийских игр // Теория и практика физической культуры. 2009. № 2. С. 29–37.
- Смирнов Ю. Г., Смолицкий В. Г. Примечание к былине о Василии Буслаевиче // Новгородские былины. М., 1978. 456 с.
- Халанский М. Г. Былина о Жидовине. Варшава, 1890. 23 с.
- Пропп В. Я. Морфология сказки. Л., 1928. 152 с.
- Долгов В. В. Поединки в древнерусской воинской культуре // Военно-исторический журнал. 2014. № 6. С. 57–60.
- Знаменский П. В. Руководство к русской церковной истории. Казань, 1876. 482 с.
- Михайлов И. Б. Полевой поединок — норма права средневековой Руси // История повседневности. 2016. № 1(1). С. 136–153.
- Герберштейн С. Записки о Московии / пер. с лат. И. Анонимов. СПб., 1866. 230 с.