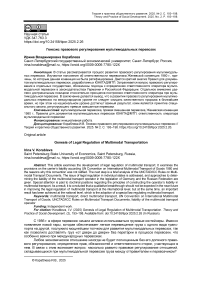Генезис правового регулирования мультимодальных перевозок
Автор: Кораблева Ирина Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс развития правового регулирования мультимодальных перевозок. Изучаются положения об ответственности перевозчика Женевской конвенции 1980 г., причины, по которым данная конвенция не была ратифицирована. Дается краткий анализ Правил для документов мультимодальных перевозок, разработанных ЮНКТАД/МТП. Затрагивается вопрос правового регулирования в отдельных государствах, обозначены подходы к определению ответственности оператора мультимодальной перевозки в законодательствах Германии и Российской Федерации. Отдельное внимание уделено доктринальным позициям относительно принципов построения ответственности оператора при мультимодальной перевозке. В заключение делается вывод, что в развитии правового регулирования мультимодальных перевозок на международном уровне не следует ожидать качественного прорыва в ближайшее время, но при этом на национальном уровне достигнут важный результат, коим является принятие специального закона, регулирующего прямые смешанные перевозки.
Мультимодальная перевозка, прямая смешанная перевозка, женевская конвенция 1980 г, правила для документов мультимодальных перевозок юнктад/мтп, ответственность оператора мультимодальной перевозки
Короткий адрес: https://sciup.org/149147380
IDR: 149147380 | УДК: 347.763.3 | DOI: 10.24158/tipor.2025.2.26
Текст научной статьи Генезис правового регулирования мультимодальных перевозок
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия, ,
Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia, ,
С 1956 г. в сфере перевозок начали активно использоваться грузовые контейнеры. Именно появление новой тары, которая обеспечивает легкое перемещение груза с одного вида транспорта на другой, послужило мощнейшим толчком для развития мультимодальных перевозок, так как позволило доставлять груз «от двери до двери» без перетарки в процессе перевозки, что особенно важно при международных перевозках.
Любое экономическое отношение никогда не будет полноценным без его должного правового регулирования, определения прав, обязанностей и ответственности сторон, участвующих в нем. В связи с этим возникает вопрос: насколько развито правовое регулирование отношений, складывающихся при мультимодальной перевозке груза между отправителем и перевозчиком?
К середине ХХ в. для правового регулирования перевозок отдельными видами транспорта (водным, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом) были введены в действие международные конвенции и приняты национальные законы, но до сих пор нет ратифицированной конвенции, регулирующей мультимодальные перевозки. Перевозка несколькими видами транспорта, объединенная единым транспортным документом и наличием лица – оператора мультимодальной перевозки, позволяет упростить структуру правоотношения по перевозке, дает ей синергетический эффект. Но в отсутствие специального правового регулирования данный эффект снижается, так как фактически перевозка распадается на несколько самостоятельных этапов, для каждого из которых предусмотрены свои правовые нормы. Получается, что оператор мультимодальной перевозки при заключении договора с отправителем не способен предсказать, например, в случае порчи груза, на основании какого закона он может быть привлечен к ответственности, поскольку нормы ответственности перевозчика различны для разных видов транспорта.
Ввиду сказанного представляется интересным рассмотреть, какие проекты международной конвенции, унифицированных торговых правил, национальных законов были разработаны в последние несколько десятилетий, какие препятствия данные проекты встретили на пути реализации, почему до сих пор нет единого регулирования мультимодальных перевозок в первую очередь на международном уровне.
Первые шаги по созданию единых правил для перевозки несколькими видами транспорта были предприняты еще в доконтейнерную эпоху в 1930 г. УНИДРУА (Международным институтом унификации частного права). Работа продолжилась в конце 1960-х гг., когда Международный морской комитет подготовил проект конвенции о мультимодальных перевозках, известный как Токийские правила. Но данное направление не получило последующего развития.
Одной из наиболее значимых попыток создания основ регулирования мультимодальных перевозок можно назвать работу ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию), результатом которой стало принятие в 1980 г. Конвенции ООН о международных смешанных перевозках грузов (далее – Конвенция, Женевская конвенция)1. К сожалению, данный документ не является действующим, так как не смог набрать необходимого числа ратификаций для вступления в силу.
Согласно ст. 16 Конвенции, оператор мультимодальной перевозки несет ответственность «за ущерб, являющийся результатом утраты или повреждения груза, а также задержки в доставке, если обстоятельства, вызвавшие утрату, повреждение или задержку в доставке, имели место в то время, когда груз находился в его ведении… если только оператор смешанной перевозки не докажет, что… были приняты все меры, которые могли разумно требоваться, чтобы избежать таких обстоятельств и их последствий».
Ответственность оператора мультимодальной перевозки ограниченна, что является стандартной особенностью правового регулирования перевозок различными видами транспорта, и исчисляется с использованием специальных прав заимствования (СПЗ). Лимиты ответственности, согласно ст. 18 Конвенции, составляют 920 СПЗ за место или другую единицу отгрузки, либо 2,75 СПЗ за 1 кг веса брутто утраченного или поврежденного груза в зависимости от того, какая сумма выше. При этом в случае отсутствия морского этапа перевозки либо перевозки внутренними водными путями ответственность оператора ограничивается суммой, не превышающей 8,33 СПЗ за 1 кг веса брутто утраченного или поврежденного груза. Если ущерб возник в результате задержки доставки, то ответственность оператора, согласно п. 4 ст. 18 Конвенции, ограничена «суммой, равной сумме, в два с половиной раза превышающей провозные платежи, подлежащие уплате за задержанный доставкой груз, но не превышающих общей суммы провозных платежей, подлежащих уплате в соответствии с договором смешанной перевозки». В случаях, когда этап перевозки, на котором произошли утрата или повреждение груза, четко определен, ответственность оператора, согласно ст. 19 Конвенции, регулируется в соответствии с международной конвенцией или императивной нормой национального права, применимой к перевозкам данным видом транспорта, если в них предусмотрен более высокий предел ответственности, чем в рассматриваемой Конвенции.
Такой детальный, но в то же время непростой для восприятия и применения порядок определения ответственности оператора перевозки стал одной из главных причин того, что Конвенция не была воспринята мировым сообществом.
В докладе ЮНКТАД от 13 января 2003 г. «Мультимодальные перевозки: возможность международного правового инструмента»2 среди прочих указаны следующие причины, почему Конвенция так и не вступила в силу:
-
1) плохая осведомленность грузоотправителей и грузополучателей;
-
2) неопределенность относительно режима ответственности;
-
3) сложность и непрозрачность содержания Конвенции;
-
4) сопротивление в принятии норм Конвенции игроками транспортной отрасли, в первую очередь морскими перевозчиками (нежелание переходить в статус оператора мультимодальной перевозки в силу своей деятельности и подпадать под более высокие ограничения ответственности);
-
5) позиция правительств ряда морских держав, согласно которой Конвенция не отражает «интересы и взгляды соответствующих отраслей»;
-
6) тесная связь Конвенции с Гамбургскими правилами (Конвенцией ООН о морской перевозке грузов), принятыми в 1978 г., но также не получившими поддержки у ведущих стран, вызвавшая обеспокоенность перевозчиков по поводу того, что ответственность смоделирована по образцу Гамбургских, а не Гаагско-Висбийских правил; слишком высокие лимиты ограничения ответственности; использование принципа единой ответственности, что может вызвать сложности с регрессными исками оператора к непосредственному перевозчику;
-
7) включение таможенных положений в Конвенцию.
Кроме того, в докладе отмечается, что само время разработки положений Конвенции было неудачным, поскольку в 1970-е гг. мультимодальные перевозки имели меньшее значение, чем сегодня.
В ситуации отсутствия действующей международной конвенции ЮНКТАД и Международная торговая палата разработали Правила для документов мультимодальных перевозок (далее – Правила, Правила ЮНКТАД/МТП)1, которые применяются в случае обоюдного согласия сторон договора мультимодальной перевозки в части, не противоречащей императивным международным или национальным правовым нормам.
Рассмотрим режим ответственности перевозчика, предлагаемый данными Правилами. Оператор мультимодальной перевозки несет ответственность за ущерб, вызванный утратой, повреждением груза или задержкой его доставки. В отличие от норм Конвенции оператор несет ответственность за убытки, возникшие в результате задержки в доставке, только если грузоотправитель сделал заявление о заинтересованности в своевременной доставке, которое было принято оператором. В п. 5.4 Правил присутствует оговорка о перевозке морским или внутренним водным транспортом, согласно которой оператор освобождается от ответственности, если ущерб, утрата или задержка доставки груза явились следствием навигационной ошибки или пожара, за исключением случаев, когда они возникли по вине оператора или при его соучастии.
Правила предусматривают более низкие лимиты ответственности оператора. В частности, раздел 6 Правил предполагает, что в случаях, когда стоимость груза не объявлена в транспортном документе, ответственность оператора за ущерб, являющийся результатом утраты или повреждения груза, ограничивается суммой, не превышающей эквивалент 666,67 СПЗ за место или другую единицу отгрузки либо 2 СПЗ за 1 кг брутто утраченного или поврежденного груза в зависимости от того, какая сумма больше. Как и в Конвенции, делается оговорка для мультимодальных перевозок только сухопутным транспортом, для которых ответственность оператора также ограничивается суммой, не превышающей 8,33 СПЗ за 1 кг веса брутто утраченного или поврежденного груза.
Еще одно положение, а именно п. 6.4 Правил, повторяет содержание Конвенции в части порядка определения основания ответственности, если ущерб, утрата или задержка зафиксированы на этапе перевозки конкретным видом транспорта: «в случаях, когда утрата или повреждение груза произошли на определенном этапе смешанной перевозки, в отношении которого подлежащая применению международная конвенция или императивная норма национального права предусматривает иной предел ответственности по сравнению с тем, который был бы установлен, если бы был заключен отдельный договор перевозки именно для этого этапа смешанной перевозки, в таком случае предел ответственности оператора смешанной перевозки за такую утрату или повреждение определяется в соответствии с положениями такой конвенции или императивной нормой национального права»2.
Правила были инкорпорированы в различные транспортные документы, например в коносамент ФИАТА (Международной федерации экспедиторских ассоциаций) и Мультидок 1995 (оборотный мультимодальный транспортный коносамент, принятый Балтийским и Международным морским советом (BIMCO) в 1995 г.). Как итог была достигнута определенная степень гармонизации правового регулирования мультимодальных перевозок.
Однако в силу того что Правила применяются только по соглашению сторон, в целях единообразного регулирования мультимодальных перевозок они становятся менее эффективным инструментом, чем международная конвенция.
Помимо международного правового регулирования в ряде стран и межгосударственных союзов существуют свои правовые нормы, регулирующие мультимодальные перевозки. Первые нормы появились в Латинской Америке, их приняли Андское сообщество, Меркосур (общий рынок стран Южной Америки), Латиноамериканская ассоциация интеграции (ALADI) путем заключения многосторонних соглашений1. Режим ответственности, предусмотренный данными соглашениями, фактически повторяет положения Женевской конвенции и Правил ЮНКТАД/МТП.
В ряде государств существуют внутренние законы, например в Аргентине, Австрии, Бразилии, Китае, Германии, Индии, Мексике, Нидерландах. Особенностью внутренних норм является тот факт, что они применяются не только ко внутренним перевозкам, но и к международным, если место доставки находится на территории такого государства.
Следует обратить внимание на правовое регулирование мультимодальных перевозок в Германии. Буквальное толкование ст. 407 Немецкого торгового кодекса2 дает понять, что его положения применяются в том числе к мультимодальным перевозкам. Статья 452 делает общие правила, регулирующие договор перевозки, применимыми к мультимодальным перевозкам таким же образом, как и к другим видам транспорта, за исключением случаев, когда точно известен момент, в который произошли утрата, порча или задержка доставки груза, и случаев, когда применяются положения соответствующих международных конвенций.
В Российской Федерации был принят Федеральный закон № 288-ФЗ от 8 августа 2024 г. «О прямых смешанных перевозках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»3 (далее – Закон, Закон № 288-ФЗ), который вступает в силу с 1 сентября 2025 г. Российский законодатель подошел к определению ответственности оператора мультимодальной перевозки по следующему принципу. Согласно ст. 4 Закона, если известен вид транспорта, на котором произошли порча, утрата или задержка доставки груза, то применяются нормы, регулирующие перевозки данным видом транспорта. Если порча, утрата или задержка доставки груза произошли по вине нескольких перевозчиков либо невозможно установить, на каком этапе они произошли, то применяется максимальный размер ответственности, предусмотренный среди норм, регулирующих перевозки теми видами транспорта, которые были задействованы в перевозке.
Таким образом, в мировой практике используются различные подходы к определению ответственности оператора мультимодальной перевозки, что, безусловно, усложняет процесс унификации норм на международном уровне и создает трудности для регулирования правоотношений при международных мультимодальных перевозках.
Если обратиться к доктринальным исследованиям, то выделяются три подхода к определению ответственности оператора перевозки (Бутакова, 2016; Brignardello, 2006; Perathoner, 2021):
-
– единая система ответственности;
-
– подход преобладающего транспорта;
-
– система сетевой ответственности.
Единая система ответственности . Согласно данному подходу, ко всей перевозке применяются единые правила определения ответственности оператора, независимо от вида транспорта, на котором произошли утрата, порча или задержка доставки груза. Такой подход решает проблему, связанную с невозможностью определения спорного этапа перевозки, однако он имеет ряд недостатков. Во-первых, такое правовое регулирование может оказаться невыгодным для оператора из-за применения более высоких размеров ответственности, что неизбежно вызывает сопротивление участников рынка мультимодальных перевозок и может затормозить его развитие. Во-вторых, возникают вопросы в части регрессных требований оператора к перевозчикам конкретным видом транспорта, так как они несут ответственность в соответствии с правовыми нормами, регулирующими перевозки их видом транспорта, которые могут предполагать меньшие лимиты ответственности.
Подход преобладающего транспорта. Согласно данному подходу, отношения между участниками регулируются правовым режимом того вида транспорта, который преобладает в перевозке. Регулирование вспомогательных этапов перевозки поглощается регулированием основного маршрута (например, морского). Таким образом, режим регулирования мультимодальных перевозок становится, по сути, унитарным с отказом вспомогательному транспорту в его собственном правовом регулировании. Как и в случае с единой системой ответственности, подобный подход не решает вопроса регрессных требований к перевозчикам на вспомогательных этапах.
Система сетевой ответственности. Согласно данному подходу, ответственность оператора диверсифицирована и определяется по правилам, предусмотренным для каждого из задействованных видов перевозки. Как итог происходит правовое расщепление перевозки на отдельные составляющие, что напрямую противоречит самому мультимодальному принципу. Кроме того, не всегда возможно определить, на каком этапе произошли утрата, порча или задержка доставки груза.
Таким образом, даже на доктринальном уровне на данный момент нет решения по наиболее справедливому подходу к регулированию мультимодальных перевозок. Это, с одной стороны, является препятствием на пути совершенствования правового регулирования мультимодальных перевозок, с другой – ставит перед наукой вопрос, а значит, дает возможность развития юридической науки, прикладным результатом чего в итоге является развитие законодательства.
Одним из вариантов решения было бы создание единой международной конвенции для всех видов транспорта, охватывающей в том числе мультимодальные перевозки, что придало бы правовое единство транспортной отрасли экономики, особенно учитывая тот факт, что в действующих нормах для перевозок разными видами транспорта присутствуют совпадения. Но данный путь имеет революционный характер и вряд ли будет принят мировым сообществом, особенно участниками рынка морских перевозок. Для учета интересов всех участников перевозочного процесса необходим эволюционный путь, поэтапная гармонизация и унификация норм.
В 2008 г. были представлены Роттердамские правила1, в которых была предпринята попытка расширить сферу регулирования перевозок морским транспортом на всю перевозку по принципу «от двери до двери», но ряд положений, в первую очередь увеличение лимитов ответственности, негативно повлияли на принятие данной конвенции мировым сообществом.
При наличии Женевской конвенции, возможно, стоит в первую очередь пересмотреть ее положения, актуализировать их с учетом сегодняшних реалий, проведенной за последние десятилетия работы над ошибками, заимствовать опыт внедрения норм регулирования мультимодальных перевозок в отдельных государствах. Но это небыстрый процесс, и ожидать конкретных результатов в ближайшее время вряд ли представляется возможным.
В то же время Российской Федерацией наконец достигнут прорыв в области правового регулирования мультимодальных перевозок. Несмотря на то что в Законе № 288-ФЗ есть неоднозначные положения (например, п. 6 ст. 4), позволяющие при определенных условиях оператору уйти от ответственности, переложив ее на непосредственных перевозчиков, принятие данного документа, безусловно, положительно скажется на развитии транспортной отрасли. Насколько эффективным будет предложенное правовое регулирование – покажет время.
Список литературы Генезис правового регулирования мультимодальных перевозок
- Бутакова Н.А. Проблемы эволюции мультимодальных перевозок в международной торговле // Управленческое консультирование. 2016. № 4 (88). С. 199-207.
- Brignardello M. Il trasporto multimodale // Diritto Marittimo. 2006. Vol. 108, no. 4. P. 1064-1083.
- Perathoner Ch. Il trasporto multimodale nel diritto dell’Unione Europea: un fenomeno trasportistico emergente privo di un’adeguata regolamentazione // Mobilitäts- und Transportrecht in Europa Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven / ed. by S. Laimer, Ch. Perathoner. Berlin, 2021. P. 59-83. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63635-0_3.