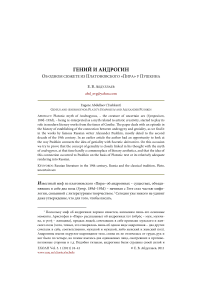Гений и андрогин. Об одном сюжете из платоновского «Пира» у Пушкина
Автор: Абдуллаев Евгений
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.5, 2011 года.
Бесплатный доступ
Известный миф из платоновского «Пира» об андрогинах - существах, объединявших в себе два пола (Symp. 189d-193d) - начиная с Гете стал частью мифологии, связанной с литературным творчеством. В статье рассмотрен один из эпизодов формирования этого представления о связи андрогинности с гениальностью - в том виде, в каком мы находим это в произведениях Пушкина второй половины 1820-х годов. В одной из предыдущих работ мы уже рассматривали связь понятия гения у Пушкина с известным сократовским «даймоном». В этой статье мы постараемся доказать, что понятие гения у Пушкина связано и с мифом об андрогинах, и что эта связь - в ту эпоху далеко еще не ставшая общим местом литературной эстетики - возникла в результате возможного знакомства Пушкина либо с самим текстом «Пира», либо с его достаточно адекватным пересказом.
Русская литература xix в., Россия и классическое наследие, пушкин, платон, андрогинность
Короткий адрес: https://sciup.org/147103314
IDR: 147103314
Текст научной статьи Гений и андрогин. Об одном сюжете из платоновского «Пира» у Пушкина
И звестный миф из платоновского «Пира» об андрогинах – существах, объединявших в себе два пола ( Symp . 189d–193d) – начиная с Гете стал частью мифологии, связанной с литературным творчеством.1 Сегодня уже никого не удивит даже утверждение, что для того, чтобы писать,
«автор выбирает быть бесполым. Ни мужчиной, ни женщиной, но тем и другим одновременно, <…> хотя эта идея для них (писателей – Е. А .) больше касается сознания, нежели тела. Поскольку, как реальный или как фантастический образ, андрогин всегда был метафорой – наиболее полным выражением того, что означает “гений”» (Ladjali 2005, 82).
Далее мы рассмотрим один из эпизодов формирования этого представления о связи андрогинности с гениальностью – в том виде, в каком мы находим это в произведениях Пушкина второй половины 1820-х годов. В одной из предыдущих работ мы уже рассматривали связь понятия гения у Пушкина с известным сократовским «даймоном» (Абдуллаев 2008). В этой статье мы постараемся доказать, что понятие гения у Пушкина связано и с мифом об андрогинах, и что эта связь – в ту эпоху далеко еще не ставшая общим местом литературной эстетики – возникла в результате возможного знакомства Пушкина либо с самим текстом «Пира», либо с его достаточно адекватным пересказом.
Первый вопрос, который должен возникнуть в этой связи – а насколько вообще был знаком Пушкин с сочинениями Платона, в частности с «Пиром»?
Вопрос далеко не праздный, поскольку прямые свидетельства такого знакомства отсутствуют. Каких-либо упоминаний платоновского «Пира» в пушкинских рукописях нет, молчат на этот счет и свидетельства современников. Восьмитомник Платона (Platon 1822–1832) имелся в пушкинской домашней библиотеке (№ 1267) – однако том с «Пиром» так и остался неразрезанным (Модзалевский 1910, 311).
С другой стороны, с учетом того места, которое занимал Платон в 1810– 1820 годы в жизни русской интеллектуальной и литературной элиты, можно сказать, что и пройти мимо Платона Пушкину было бы трудно.
Платона упоминали в своих лекциях лицейские преподаватели поэта: П. Е. Георгиевский – по эстетике (Горчаков 1937, 163, 185) и А. И. Галич – по латинской словесности. 2
Платоном увлекались и старшие товарищи и литературные наставники молодого поэта. Платона конспектирует – правда, в изложении Сенеки и Лонгина – Батюшков (Батюшков 1885, 321–323, 365–366), Жуковский публикует в «Вестнике Европы» свое переложение статьи немецкого критика И.-Я. Энгеля «О нравственной пользе поэзии», в которой разбирается учение Платона о поэзии (Жуковский 1985, 176–178), а Карамзин даже собирался перелагать Платона стихами (см. Лотман 1966, 7–9). Увлекались платоновскими «Законами» и «Государством» члены Южного Общества декабристов, со многими из которых Пушкин был близок (см. Якубович 1941, 153).
С именем Платона связывались, и не без основания, новые течения в немецкой философии и эстетике, прежде всего романтизм.3 Как писал Батюшков: «В недавнем времени в Германии воскресили всю мечтательную философию Платона под другим именем» (Батюшков 1977, 187). Действительно, философия йенских романтиков и Шеллинга была своего рода «платонической реакцией» на кантианство с его учением о непознаваемости того, что выходит за пределы чувственного опыта. Эта связь была отмечена уже в известной в России (и прочитанной Пушкиным) книге де Сталь «О Германии».4 Читал Пушкин и сборник афоризмов одного из романтиков-теоретиков, Жан-Поля (Jean-Paul, 1829), в котором содержались ссылки на Платона – об этом сборнике будет сказано далее.
Связывался с философией Платона романтизм и в «Опыте науки изящного», первом в России систематическом изложении немецкой романтической эстетики, который в 1825 году опубликовал Галич (Галич 1974, 205–275). Бывший лицейский наставник Пушкина провозглашал Платона основателем пред-романтического и романтического периода «теории изящного». Это период, писал Галич,
« открытый Платоном , восстановленный Винкельманом и продолженный Лессингом, Гердером, Шлегелями и другими. Здесь слышим о творческой фантазии, о жизни, предполагаемой во всяком изящном произведении, об идеях и об их согласии с формами, о соединении всех потребностей человеческой природы, о красоте как об откровении или отблеске совершенного бытия и проч.» (курсив мой – Е. А. ) (Там же, 211).
Сам Галич солидаризируется с этим «платоническим» направлением. Платонизм автора опознается, например, в утверждении, что «истинное и доброе по значению своему – идеи, составляющие внутреннюю, невидимую сущность вещей» (Там же, 215). Не случайно анонимный рецензент в «Отечественных записках» отмечал, что Галич «следует между древними Платону» (Опыт 1974, 287).
Платон – наряду с Кантом и Шеллингом – был одним из наиболее почитаемых философов в кругу московских любомудров, с которыми Пушкин сблизился в 1826–1829 годы. Особенно горячо увлекались Платоном В. Ф. Одоевский (Одоевский 1975, 191), С. П. Шевырев,5 Д. В. Веневитинов
(Веневитинов 1934, 254) и А. И. Кошелев (Кошелев 1991, 47). Через любомудров Пушкин познакомился с «адъюнктом греческой словесности» Василием Оболенским, выпустивший в 1827 году русский перевод платоновских «Законов» (Оболенский 1827)6.
Кроме «Московского вестника» – печатного органа любомудров – статьи о Платоне публиковал «Московский телеграф» его редактор Н. Полевой: «Филеб или разговор Платона о высочайшем благе» (1826, ч. VII, отд. I) и др. В «Вестнике Европы» печатает «Идеологию по учению Платона» и «Метафизику Платонову» (№11 и 13 за 1830 г.)7– Н. Надеждин, к которому Пушкин в то время благоволил.
Итак, источников, из которых Пушкин мог бы ознакомиться с философией Платона в целом, и платоновским мифом об андрогинах из «Пира» в частности, в 1810–1820-е гг. нехватки не было. Однако возникает другой вопрос – насколько факт и степень такого знакомства подтверждает само пушкинское творчество.
Имя Платона встречается у Пушкина четыре раза. Это не так мало, если сравнить с другими известными древними философами, упомянутыми поэтом: Аристипп – 5 раз, Аристотель – 4, Эпикур – 4, Диоген – 3, Сократ – 1.
Первые упоминания относятся к лицейским годам. Платон упомянут в одном из вариантов «Пирующих студентов» (1814): «Шипи, шампанское, в стекле. / Друзья, почто же с Кантом, / С Платоном Тацит на столе, / Фольянт над фолиантом?» (I, 350),8 вариантов стихотворения «К Каверину» (1817): «И черни презирай ревнивое роптанье./ Она не ведает, что можно дружно жить / С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом» (I, 238) и в стихотворении к «Лидии» (1817), о котором мы скажем ниже. По-видимому, имя Платона появляется у раннего Пушкина под влиянием лекций Георгиевского и, особенно, Галича (последний присутствует среди тех, к кому обращается поэт в «Пирующих студентах»). В обоих случаях это имя не выражает, собственно, ничего «платоновского» – это лишь знак некой «учености», которая противопоставлена эпикурейской беззаботности – идеалу ранней лирики поэта.
Следующее упоминание встречается в «Послании Дельвигу» (1827 г.), которое относится к периоду сближения Пушкина с любомудрами и в котором давался их пародийно сниженный образ – в виде некого немецкого студента, в чьей коморке «Творенье Фихте и Платона / Да два восточных лексикона / Под паутиною в углу / Лежали грудой на полу» (III, кн.1, 69).
Здесь, как и в «Пирующих студентах», Платон – автор философского опуса, непременного атрибута студенческой кельи, который, однако, студенты предпочитают держать подальше – под столом или «в углу». Ничего опять-таки «платоновского» здесь нет, хотя показательно, что и в «Студентах», и в «Послании Дельвигу» том Платона оказывается в соседстве с сочинениями новых немецких философов – соответственно, Канта и Фихте.
Наконец, четвертое, наиболее позднее, упоминание Платона содержится в прозаических набросках 1833 года – «Повести из римской жизни». Главный герой, говоря о своем знакомстве с другим героем, Петронием, признается: «В разговорах с ним почерпал я знание света <и> людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту» (VIII кн.1, 388). В этом противопоставлении «умозрительного», точнее, теоретического знания – эмпирическому, безусловно, гораздо больше от учения Платона, чем в предыдущих трех упоминаниях, однако и оно не выходит за рамки общеизвестного и широко распространенного представления о платоновском идеализме.
То же можно сказать и о производных от «Платона» словах. «Платонический», «платонизм» в пушкинских текстах 1820-х годов относятся к возвышенной любви к женщине, хотя и в несколько ироническом контексте.9 Это тоже вполне распространенный штамп предромантической и романтической литературы, совершенно не обязательно означавший знание самого Платона и тех его диалогов, где развивается его учение о любви – прежде всего, «Пира».
Сократ упоминается Пушкиным один раз – в образе гедониста и светского льва в лицейском «Послании Лидии».
Люблю я доброго Сократа!
Он в мире жил, он был умен;
С своею важностью притворной
Любил пиры, театры, жен;
Он, между прочим, был влюблен,
И у Аспазии в уборной
(Тому свидетель сам Платон),
Невольник робкий и покорный,
Вздыхал частехонько в хитон,
И ей с улыбкою придворной
Шептал: «Всё призрак, ложь и сон:
И мудрость, и народ, и Слава;
Что ж истинно? одна Забава,
Поверь: одна любовь не сон!»
Так ладан жег прекрасной он,
И ею… бедная Ксантипа!
Твой муж, совместник Аристипа,
Бывал до неба вознесен (I, 227).
В этом отрывке не только нет ничего от Сократа «Пира», но и от «исторического» Сократа. Даже если Сократ был «воздыхателем» Аспазии, он не мог быть в этом «совместником» (соперником) в этом Аристиппа – его ученика, позже основателя мегарской школы: Аристипп прибыл в Афины значительно позже изгнания из города Аспазии. И уж тем более Платон не мог быть свидетелем всему этому – его тогда еще не было на свете. Сократ «Послания Лидии» вполне укладывается в образ салонного философа, и мог вполне быть заимствованным Пушкиным из русской литературы конца XVIII века, в которой был весьма популярен – прежде всего из «Послания к женщинам» Карамзина (1796)10 (см. Костин 2005, 92–96).
Единственный случай, когда Пушкин обнаруживает свое знакомство с другим, близким платоновскому «Пиру», контекстом образа Сократа, можно найти в его письме А. А. Бестужеву от 13 июля 1823 года. В нем Пушкин называл «певцом сократической любви» (XIII, 65) Аркадия Родзянка – Пушкин был знаком с его стихотворением «К Лигуринусу», которое представляло собой перевод Х оды из V книги «Од» Горация и излагало миф о любви Аполлона к Гиацинту (см. Вацуро 2000, 61).
Однако и эта, достаточно неожиданная – если учесть, что под «платонической любовью» Пушкин всегда подразумевал любовь именно к женщине – зацепка также не дает еще оснований полагать, что Пушкин был хорошо знаком с содержанием «Пира» или других «сократических диалогов» Платона, где прославлялась любовь к юношам. Письмо писалось из южной ссылки – когда Пушкин бывал у знакомого ему еще по «Арзамасу» Ф. Ф. Вигеля, который, как раз, был известным адептом «сократической любви». Возможно, тема любви к юношам была затронута Вигелем в одном из разговоров с поэтом.11
Кроме того, та линия «Пира», которая была связана с апологией однополой любви, для читателя пушкинской поры была не столь очевидна. Дело было, видимо, не только в цензурных соображениях, сколько в отсутствии соответствующего концептуального, мировоззренческого «каркаса» для подобного рода интерпретации Платона. На протяжении почти всего XIX века сохраняла свое влияние аллегорическая интерпретация тех мест в платоновских диалогах, которые противоречили общепринятым моральным нормам; соответственно и любовь мужчины к юноше истолковывалась как особая, неплотская любовь, причем, по умолчанию, – к женщине. Это, кстати, и объясняет тот полемический пафос, с которым А. Ф. Лосев в своих «Очерках античного символизма и мифологии» (1930) несколько раз повторяет, что проповедь однополой любви в «Пире» должна быть очевидна всякому, «кто внимательно читал Платона» (Лосев 1993, 855–856). Действительно, после опыта радикального истолкования Платона у Ницше, после деятельности кружка Георге, после Фрейда, Вайнингера, Розанова подобное акцентирование темы однополой любви у Платона – и отметание прежней, аллегорической интерпретации, – было вполне понятным. Однако то, что могло казаться очевидным в 1930-м, столетие до того могло восприниматься иначе.
Напротив, другая тема из «Пира» не только не входила в число табуированных, но, с подачи немецких романтиков все больше начинает обсуждаться в связи с эстетикой гения – что, скорее всего, и вызвало интерес у Пушкина. Речь идет о теме андрогина и о восприятии гения как своего рода андрогина.
Хотя слово «гений» встречается в пушкинских текстах (включая письма, статьи, черновые наброски) уже с 1814 года, однако в 1825–1830 его «частотность» возрастает более чем вдвое: за этот период оно встречается не менее 45 раз.
И одна из вероятных причин такой «прогрессии» в отношении этого термина – появление первых переводов теоретических работ немецких романтиков на русский и французский.12
Здесь стоит сразу отметить, что у самих романтиков – и, условно говоря, «пред-романтиков», вроде Гете – понятие «гения», хотя и было во многом перенято у французских авторов (Вольтера, Жовиньи, Фонтенеля), однако свою специфику получило именно в контексте нового прочтения Платона, в том числе, его «Пира». Если французские авторы просветители «вычитывали» в этом диалоге лишь проповедь сверхчувственной любви (в духе галантного ухаживания), то уже у Гете, под влиянием «Сократических памятников» Гама-на, произошла «встреча» с иррациональным, «даймоническим» смыслом платоновского диалога. Именно у Гете, как показал П. Адо, «Эрос» объединяется с одной стороны, с образом андрогина (в диалоге Эрос и андрогин – два разных мифологических персонажа), с другой – с даймоном Сократа.13
Это достаточно рискованное объединение было воспринято романтиками,14 которые, как и Гете, выделяли «Пир» среди прочих платоновских диалогов.
Романтический идеал андрогина возник как своеобразная реакция на постепенное изживание салонного «андрогинизма» XVIII. Об этом, анализируя фигуру Николая I, писал Р. С. Уортман: николаевский период стал «концом андрогинных представлений конца XVIII столетия, отразившихся в идеале правителя, объединявшего в себе мужские свойства власти с женскими качествами красоты и любви» (Уортман 2002, 344). Действительно, еще в начале XIX века, как писал уже упомянутый Ф. Ф. Вигель:
«Жеманство, которое встречалось тогда в литературе, можно было также найти в манерах и обращении некоторых молодых людей. Женоподобие не совсем почиталось стыдом, и ужимки, которые противно было видеть и в женщинах, казались утонченностями светского образования» (Вигель 2000, 36).
Вигель, разумеется, хроникер в этом вопросе не совсем беспристрастный – однако его свидетельство не единично. Сама мужская мода «первые два десятилетия 19 века <…> находилась в явной – хотя и не прямой – коррекции с модой женской» (Проскурин 1999, 324).
Даже переодевание в костюм противоположного пола не истолковывалось как недопустимое, и тем более как выражение сексуальной перверсии. Во времена пушкинского отрочества и юности такое переодевание еще рассматривалось в контексте куртуазных игр предшествовавшего столетия (например, переодевания Екатерины II в мужской гвардейский мундир).
Отсюда, возможно, – и тема переодеваний в пушкинском творчестве. Например, в замысле «Папессы Иоанны» (VII, 256) – истории с переодеванием женщины в мужскую одежду и выдаванием себе за мужчину, или – обратный случай – в «Домике в Коломне», где фигурирует переодетый в женское платье мужчина.15 В этом контексте теряет свой двусмысленный флер и известное сравнение Онегина с Венерой: «Подобный ветреной Венере, / Когда, надев мужской наряд, / Богиня едет в маскарад» (VI, 15) – здесь «андрогинизм» героя все еще связан с внешними, «салонными» признаками – одеждой, манерой держаться.
Иными словами, «андрогинные представления» XVIII века, о которые еще сохранялись в первые два-три десятилетия XIX века, касались больше кодекса поведения, вполне допускавшего, в виде светской игры, смену «гендерных» ролей, «женственность» у мужчин как проявление особой утонченности.16
«Андрогинный» идеал у романтиков был иного рода. Андрогинность касалась не внешних «салонных» признаков, а переносилась на внутренний план личности – и рассматривалась как устойчивый психологический тип, связанный с творчеством.
Например, Фридрих Шлегель, в своем эссе «О Диотиме» (1795) писал – с опорой на платоновский миф:
«…женское начало, как и мужское, должно быть очищено до высшего человеческого» («…die Weiblichkeit soll wie die Mänlichkeit zur höhern Menschlichkeit gere-inigt werden») (Цит. по: French 1996, 66)
Сходные мысли Шлегель излагал и в статье «О философии» (1798):
«В действительности мужественность и женственность, как их обычно понимают и практикуют, являются опаснейшими помехами человечности, которая, согласно древней легенде, находится посередине, и может представлять собой лишь гармоничное целое, не терпящее никакого обособления . <…> [С]овершенно не нужно усиливать характер пола, являющегося лишь врожденным, естественным делом, надо, скорее, стремиться к тому, чтобы ослабить его с помощью мощного противовеса и предоставить неограниченный простор самобытным чертам» (курсив наш – Е. А .) (Шлегель 1983, 340).
Совершенно очевидно, что «древняя легенда» о гармоничном целом двух полов – это миф из платоновского «Пира». Интересно, что проявление «самобытного» – в том числе и гениального – в человеке Шлегель связывает с «ослаблением» характера пола.
Другой теоретик романтизма, Жан-Поль, идет еще дальше. Воспроизводя в своей «Подготовительной школе эстетики» идущее от Вальтера разделение авторов на просто талантов и гениев, Жан-Поль «вклинивает» между ними еще один тип: «женственных, воспринимающих, или пассивных гениев (weibliche, empfangende oder passive Genie )» (Жан-Поль 1981, 82).17
Это, пишет Жан-Поль, «гениальные андрогины (genialen Mannweiber), – они лишь воспринимают, думая, что дают начало новой жизни» (Там же, 85).
Они «богаче фантазией воспринимающей, а не творческой... Эти люди вбирают в свою священную раскрытую душу великий мировой дух – во внешней жизни или во внутренней, в мысли и поэзии, они остаются верны ему, презирая низкое, как нежная жена, привязанная к крепкому мужу (wie das zarte Weib am starken Mann), – и, однако, желая выразить свою любовь, они всякий раз борются со своими органами речи, неподатливыми, непослушными и все равно говорят не то, что хотели. <...>
Для каждого из нас да будут они священны, для того, кто выше их, и для того, кто ниже! ибо они в этом мире посредники между пошлой повседневностью и гением, – словно Луны, они отбрасывают свет гениального Солнца в Ночь, примиряя и умиротворяя все» (Там же, 82–83).
Можно заметить, что здесь Жан-Поль, в отличие от Шлегеля, довольно далеко отходит от мифа об андрогинах в «Пире». В «Пире» андрогины – не пассивны, напротив, они «страшны своей силой и мощью», они «питали великие замыслы и посягали даже на власть богов» (καὶ τὰ φρονήματα μεγάλα εἶχον, ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς θεοῖς – Symp . 190b).18 Единственное, в чем Жан-Поль следует описанию андрогинов у Платона, это в связи их с Луной.19
Жан-Поль представляет в контексте нашего исследования особый интерес, поскольку факт знакомства Пушкина с его эстетическими идеями вполне установлен. «Жан Поль был хорошо известен в России 1-й половине XIX в.: его сочинения широко переводились, его имя встречается в одном ряду с Гете и Ф. Шиллером почти во всех обзорах иностранной литературы, появлявшихся на страницах русской печати в 1820-1840-е» (Коренева 2004, 141–142). Хотя сама «Подготовительная школа эстетики» в 1820-е на русский не переводилась, она была хорошо известна в пушкинском кругу: выписки из нее делали Жуковский (1985, 301–302) и Шевырев (1836, 354–362).
Но если о знакомстве Пушкина с «Подготовительной школой» можно говорить лишь гадательно, то в отношении вышедшего уже после смерти Жан Поля сборнике его мыслей и афоризмов, который мы уже упоминали выше (Jean-Paul 1829), подобных сомнений нет. Этот томик сохранился в библиотеке поэта (№ 1031), он был подарен Пушкину Ю. Н. Бартеневым 31 августа 1830 года; той же осенью поэт читал его в Болдино (Коренева 2004, 142). И здесь, среди прочих афоризмов, снова встречается упоминание мифа об андрогинах из «Пира»:
«Внутренний человек, в соответствии с гениальным мифом Платона, разделен на мужчину и женщину, но совершенство состоит в воссоединении силы и нежности» ( L'homme intérieur est, d'après l'ingénieuse fiction de Platon, divisé en homme et en femme ; mais la perfection consiste dans la réunion de la puissance et de la douceur ).20
Появляется – правда, не так подробно, как в «Подготовительной школе», разделение гениев на «женственные» и «мужественные»:
«Женственные гении, большей частью, мыслители; мужественные гении, напротив, как правило обладают верой» ( Les femmes de génie sont pour la plupart esprits-forts ; les hommes de génie,au contraire ,ont généralement de la foi ) (Ibid, p. 198).21
Итак, во второй половине 1820-х Пушкин, по-видимому, был знаком с мифом об андрогинах из «Пира», причем, учитывая интерес поэта к романтизму, для него вряд ли должна была остаться незамеченной та трактовка, которую этот миф получил у теоретиков этого направления.
Однако вряд ли одного теории было бы здесь достаточно: как это не раз случалось в пушкинской биографии, теоретические вопросы переходили у Пушкина из «абстрактного плана» – в творчески-конкретный, как только оказывались в сфере литературной полемики.
Таким эпизодом литературной полемики, который, на наш взгляд, мог катализировать интереса Пушкина к теме «андрогинности» гения, было его известное столкновение с Павлом Катениным в 1828 году. Этот эпизод был блестяще исследован Тыняновым (Тынянов 1968, 74–85), который реконструировал его следующим образом.
Катенин, раздосадованный то ли растущей славой Пушкина, то ли его «верноподданническими» (так воспринимали их многие) стихами – «Стансами» (1826) и «Друзьям» (январь 1828), а, скорее всего, и тем, и другим, отправляет Пушкину в марте 1828 года новую балладу «Старая быль». В ней Катенин описал состязание льстивого грека и старого русского воина, воспевателя старины, в прославлении князя Владимира. Грек получает в награду коня; русский же воин отказывается от состязания: «Ни с эллином спорить охоты мне нет, / Ни петь я, как он, не умею». Князь дает старому певцу за его былые подвиги вторую награду – кубок; после чего певец созывает «несколько верных старинных друзей» на пир: «И княжеский кубок к веселью гостей / С вином обнести круговую»(Там же, 77).
И хотя, пишет Тынянов, то, что Катенин посвятил это стихотворение Пушкину «до известной степени нейтрализовало смысл “Старой были”: кубок старого витязя достался именно Пушкину»,22 Пушкин легко распознал в льстивом греке-скопце намек на себя, на свои последние стихи, относившиеся к Николаю I (Там же, 78). Пушкин ответил Катенину «гневно и иронично»: «Напрасно, пламенный поэт, / Своей чудный кубок мне подносишь / И выпить за здоровье про- сишь: / Не пью, любезный мой сосед, / Товарищ милый, но лукавый, / Твой кубок полон не вином, / Но упоительной отравой» («Ответ Катенину»).23
В контексте нашей темы любопытно, прежде всего, то, что образ грека-скопца в «Старой были» имеет отчетливые андрогинные черты («Высок и прелестен, как девица, грек»). Здесь, безусловно, содержался намек не на физический облик самого Пушкина; скорее, Катенин просто чутко уловил новое, романтическое веяние (а романтизма Катенин не принимал) в истолковании понятия гения, выносящее на первый план ту самую «внутреннюю» женственность, с которой Катенин связывает и «изнеженность» и угодливость грека.24
На этом фоне становится более понятным интерес Пушкина к проблематике «андрогинности» гения. Через год с небольшим, в знаменитую «болдин-скую осень» 1830 года, он возвращается к ней в двух своих произведениях. Напомним, под рукой у него – сборник афоризмов Жан-Поля с упоминанием известного платоновского мифа.
Итак, что это за два произведения?
Первое, как представляется, это – «Моцарт и Сальери». Уже Тынянов справедливо связал «Моцарта и Сальери» со «Старой былью».
«Сальери, с его “глухою славой”, который “отверг рано праздные забавы и предался музыке”, как бы высокий аспект Катенина, “проводящего всю жизнь в платоническом благоговении и важности” у поэзии в гостях. Фигурирует здесь и “отравленный кубок” – образ из “Ответа Катенину”» (Тынянов 1968, 75).25
На этой аналогии Тынянов останавливается – мы же полагаем, что ее можно продолжить, и предположить, что пушкинский Моцарт представлял своеобразную трансформацию образа Грека из «Старой были». Моцарт – по крайней мере, в том образе, в каком он представлен в монологе Сальери – обладает выраженными «андрогинными» свойствами. «Как некий херувим / Он несколько занес нам песен райских».
Можно, конечно, усомниться, насколько «херувим» семантически тождественен «андрогину», а бесполость – двуполости. Разумеется, «херувим» – слово не античного, но библейского происхождения. Однако довольно красноре- чив контекст, в котором оно употреблено. Процитируем отрывок из монолога Сальери:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем еще искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим ,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь! (курсив наш – Е.А .)
Несмотря на оркестровку библейскими образами («херувим», «рай»), речь идет не о благодатном небесном духе, но херувиме-«соблазнителе», возмущающем «бескрылое желание». Этот пассаж вполне соответствует образу гения . С одной стороны, гений причастен занебесной области (Ср. из стихотворения «Козлову» (1825): «...гений, / На все минувшее воззрел, / И в хоре светлых привидений / Он песни дивные запел»); с другой – он провоцирует желание подражать себе, однако подражание не способно приблизить к гени-альности26. Наконец, гений – как и андрогин – способен лишь «возмущать желание», но не способен «оплодотворять» («Наследника нам не оставит он...»). Вообще, «Херувим» в лексиконе Пушкина – существо бесполое; в «Ответе анониму» (III, 1, 229) – даже женского рода.27
Парадокс заключается в том, что «женственным гением» – по классификации Жан-Поля – в «Моцарте и Сальери» оказывается, однако, не Моцарт, а Сальери. Если перечитать те признаки «гениального андрогина», которые приводятся в «Подготовительной эстетике», то почти все они применимы к Сальери (впрочем, и фраза из сборника жан-полевских афоризмов, что «женственные гении мыслители» – пушкинский Сальери и выступает в пьесе как «мыслитель», «теоретик» – в отличие от Моцарта28). Воспринимающий музыку и ценящий ее, как никто другой, пушкинский Сальери, однако, одержим лишь «бескрылым желаньем». Кстати, на «женственную» природу пушкинского Сальери – и, соответственно, на «мужскую» Моцарта – указывали почти все, кто пытался дать этой «маленькой трагедии» психоаналитическую трактовку. Ермаков писал о «кастрационном комплексе» у Сальери (Ермаков 1999, 139),29 а Р. Рейд – о «женских коннотациях (female connotations) в отношениях Сальери к Моцарту» (Reid 1995, 127).
В том, что и Моцарт, и Сальери у Пушкина обладают андрогинными чертами, нет противоречия. Противоречие это возникает, если стоять на точке зрения той интерпретации, которой платоновский миф из «Пира» подвергает Жан-Поль в «Подготовительной школе». Однако художественный вывод у Пушкина оказался несколько другим, нежели у Жан-Поля – ближе к платоновскому мифу, согласно которому, как уже говорилось, андрогины воплощали собой активное, творческое начало. Что на наш взгляд, и дает основание предположить, что Пушкин был знаком либо непосредственно с самим платоновским «Пиром», либо с его достаточно точным пересказом.30 Андрогинность, «бесполость», как одна из ипостасей гения у Пушкина присуща и Моцарту, и Сальери; но если в моцартовском более выражена «мужская», более активная «андрогинность», то у Сальери – напротив, «женская», пассивная, воспринимающая.
То, что подобная гипотеза не лишена оснований, доказывает другой пушкинский текст, написанный им одновременно с «Моцартом и Сальери» в Бол-дино. Речь идет о стихотворении «В начале жизни школу помню я». Поэт вспоминает свои детские прогулки среди парковых статуй:
Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
Один (Дельфийский идол) лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный,
Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось – холод
Бежал по мне и кудри подымал.
Безвестных наслаждений темный голод
Меня терзал – уныние и лень
Меня сковали – тщетно был я молод.
[Средь отроков] я молча целый день
Бродил угрюмый – всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень (III, кн. 1, 255).
Здесь, как и в «Моцарте и Сальери», олицетворена – только уже не людьми, а античными богами – все та же антитеза творчески-активного и воспринимающе-пассивного.
Первое начало воплощено в Аполлоне («Дельфийском идоле»), покровителе искусств и творчества. (Сальери, произнеся сакраментальное «Ты, Моцарт – бог», отождествлял Моцарта, разумеется, не с христианским Богом, а, скорее всего, именно с Аполлоном).
Относительно того, какое божество подразумевалось под вторым «идолом» поломано немало копий. Как писал Р.Якобсон, «Мало есть пушкинских образов, которые бы так томили комментаторов» (Якобсон 1987, 158). Одни – М. Н. Розанов, М. А. Цявловский, С. М. Петров, Р. Якобсон, Д. Д. Благой – видели в нем Афродиту, другие – Д. Мережковский, Вяч. Вс. Иванов – Вакха-Диониса…
Что ж, это, действительно, могла быть Афродита – о чем свидетельствует строка «Природы женской лживый идеал» в черновом варианте (III, кн. 2, 865) – что вряд ли можно было бы отнести к Дионису. С другой стороны, верно отмечалось и то, что прилагательное «женообразный» в пушкинскую пору обычно относилось к мужчине, а не женщине31 – и вторым парковым «бесом» мог быть Дионис или же другой «женообразный» кумир (соблазнительно предположить, что им мог быть Эрос-Эрот, чья скульптура находилась в Царскосельском парке – тот самый «Эрот бескрылый», который упоминается в одном стихотворении Анненского). Возможен и «компромиссный» вариант – Пушкин первоначально имел в виду Венеру, однако затем, в процессе написа- ния, как это не раз случается, он трансформирует женский образ в мужской, хотя и «женообразный» (тем более что в «Онегине» уже был «прецедент» – в отождествлении героя с Венерой).
Все эти версии одинаково правдоподобны, и одинаково спекулятивны. Стихотворение Пушкиным при жизни не публиковалось, печатается частью по беловому, частью по черновому автографу, причем «граница» между автографами как раз приходится на описание «женообразного демона». Для нас в данном случае важнее сама антитеза «гордости ужасной», «силы неземной» – и сомнительного, лживого, хотя и прекрасного женообразия. Опять же, Пушкин не столько противопоставляет «мужское» как таковое – как таковому «женскому». «Дельфийский идол» отнюдь не маскулинен, даже с учетом тех представлений о маскулинности, о которых мы говорили выше; в фразе «и весь дышал он силой неземной» представлена отнюдь не физическая сила, но сила божественная, а строчка из чернового варианта: «И гнев и гордость на устах прекрасных» уже отчетливо указывает на «андрогинность» этого образа – «прекрасные уста» даже в пушкинскую пору употреблялись в отношении женских, а не мужских уст.32
Здесь и следует искать объяснение того, что статуи достаточно неожиданно именуются Пушкиным как «бесов изображенья» – Пушкин, по-видимому, ощутил ту этическую сомнительность (не говоря уже о религиозной), ту «прелесть», которую таил в себе образ андрогина. Так же как платоновские андрогины, андрогинные образы у Пушкина несут себе вызов небу, вызов устойчивому порядку вещей. Позже эта мерцающая двойственность, двусмысленность, связанная с образом андрогина будет осмыслена литературой – у Бодлера, Бальзака, Блока, Пастернака… Как пишет С. Ладжали в своей статье «Когда я пишу, я не имею пола», с цитаты из которой мы начали эту статью,
«Но, одновременно с лучезарной силой они (андрогины – Е. А. ) порождают ужас. Они возмущают богов. Символ творческой гармонии и красоты сущего, андрогин, тем не менее, – предвестник катастрофы. Его совершенство аномально. Его красота тревожна. Его интеллектуальная мощь оскорбительна» (Ladjali 2005, 82).
Так Пушкин оказался ближе более поздним истолкованиям этого образа. Не случайно «В начале жизни школу помню я…» так и осталось неопубликованным, а напечатанное в 1841 году, не привлекло к себе большого внимания; публикация «Моцарта и Сальери» при жизни Пушкина фактически прошла незамеченной – разве что некоторых читателей взволновал вопрос, насколько справедливо было «обвинение» Сальери в отравлении Моцарта. Лишь с начала ХХ века оба текста, особенно «Моцарт и Сальери», становятся объектом ак- тивной литературной и эстетической рефлексии, которая, однако, требует отдельного разговора, с учетом философских контекстов «серебряного века».
Итак, хотя вопрос степени знакомства Пушкина с платоновским «Пиром» остается открытым, мы полагаем, что само это знакомство имело место, и к тому же оказало определенное влияние на пушкинское творчество. И хотя это было во многом определено интересом Пушкина к эстетике романтизма, однако пушкинская трактовка образа андрогина отличалась значительной самостоятельностью и оригинальностью.
Список литературы Гений и андрогин. Об одном сюжете из платоновского «Пира» у Пушкина
- Абдуллаев Е. В. (2008) «Гений и демон: о двух античных терминах в "Маленьких трагедиях"», Вопросы литературы 1 (magazines.russ.ru/voplit/2008/1/ab7.html)
- Батюшков К. Н. (1885) Соч.: В 3 т. Т. 2. (СПб)
- Батюшков К. Н. (1977) Опыты в стихах и прозе/Изд. подгот. И. М. Семенко (Москва)
- Вацуро В. Э. (2000) «Пушкин и Аркадий Родзянка (Из истории гражданской поэзии 1820-х годов)», Вацуро В. Э. Пушкинская пора (СПб)
- Веневитинов Д. В. (1934) Полн. собр. соч. (Москва -Ленинград)
- Вигель Ф. Ф. (2000) Записки/Под ред. С. Я. Штрайха (Москва)
- Виноградов В. (1934) «О стиле Пушкина», А. С. Пушкин: Исследования и материалы/План тома, организация материала, литературная редакция, подбор материала и оформление И. С. Зильберштейна и И. В. Сергиевского (Москва)
- Вульф А. Н. (1915) «Дневник, 1828-1831 гг.», Пушкин и его современники: Материалы и исследования (Петроград)
- Галич А. И. (1974) «Опыт науки изящного», Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. В 2-х т. Т.2. Сост., вступит. статья и примеч. З. А. Каменского (Москва)
- Горчаков А. М. (1937) «Лицейские лекции (по записям А. М. Горчакова)», Красный архив 1 (80)
- Ермаков И. Д. (1999) Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский (Москва)
- Жан-Поль (1981) Подготовительная школа эстетики/Вступ. статья, сост., пер. и коммент. Ал. В. Михайлова (Москва).
- Жуковский В.А. (1985) Эстетика и критика/Вступ. статья Ф. З. Кануновой и А. С. Янушкевича; Сост. и примеч. Ф. З. Кануновой, О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевича (Москва)
- Карамзин Н. М. (1966) Стихотворения (Ленинград)
- Коренева М. Ю. (2004) «Жан Поль», Пушкин: Исследования и материалы 18/19 (СПб)
- Костин А. В. (2005) «"Галантный" Сократ. К проблеме бытования образа исторической личности в русской литературе конца XVIII в.», Русская литература 1
- Кошелев А. И. (1991) Русское общество 40 -50-х годов XIX в. Часть I. Записки А. И. Кошелева. (Москва)
- Лосев А. Ф. (1993) Очерки античного символизма и мифологии. Сост. А. А. Тахо-Годи; Общ. ред. А. А. Тахо-Годи и И. И. Махонькова (Москва)
- Лотман Ю. (1966) «Поэзия Карамзина», Карамзин Н.М. Стихотворения (Ленинград)
- Мирошниченко Е. И. (2010) «Николай Надеждин и его место в истории русского платонизма», Вестник НГУЭУ 2
- Модзалевский Б. Л. (1910) Каталог библиотеки », Пушкин и его современники: Материалы и исследования (СПб)
- Надеждин Н. И. (2000) Соч. в 2 т./Отв. ред. З. А. Каменский (СПб)
- Оболенский В. (1827) Платоновы разговоры о законах. Переведено В. Оболенским (Москва)
- Одоевский В. Ф. (1975) Русские ночи/Изд. подгот. Б. Ф. Егоров, Е. А. Маймин,
- М. И. Медовой (Ленинград) Опыт (1974) Без автора. «Опыт науки изящного», начертанный А. Галичем, Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. В 2-х т. Т.2. Сост., вступит. статья и примеч. З. А. Каменского (Москва)
- Погодин М. П. (1985) «Из "Воспоминаний о Степане Петровиче Шевыреве"», А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2./Вступ. статья В. Вацуро; Сост. и коммент. В. Вацуро, М. Гиллельсона, Р. Иезуитовой, Я. Левкович (Москва)
- Проскурин О. А. (1999) Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест (Москва)
- Пушкин А. С. (1937-1959) Полное собрание сочинений: В 16 т. (Москва-Ленинград).
- Рабинович Е. Г. (1972) «"Пир" Платона и "Пир во время чумы" Пушкина», Античность и современность. К 80-летию Федора Александровича Петровского (Москва)
- Сурат И. З. (2009) Мандельштам и Пушкин (Москва)
- Тынянов Ю. Н.(1968) Пушкин и его современники (Ленинград)
- Уортман Р. С. (2002) «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии» Ма териалы и исследования по истории русской культуры 8. В 2-х тт. Т.1: От Петра Великого до смерти Николая I (Москва)
- Шевырев С. (1836) Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов (Москва)
- Шлегель Ф. (1983) Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. Т. 1./Вступ. статья, пер. с нем. Ю. Н. Попова; Примеч. Ал. В. Михайлова и Ю. Н. Попова (Москва)
- Якобсон Р. (1987) «Статуя в поэтической мифологии Пушкина», Якобсон Р. Работы по поэтике/Вступ. ст. Вяч. Вс. Иванова, сост. и общ. ред. М. Л. Гаспарова (Москва).
- Якубович Д. П. (1941) «Античность в творчестве Пушкина», Пушкин: Временник Пушкинской комиссии 6 (Москва -Ленинград).
- Ямпольский М. (2005) Филологизация (проект радикальной филологии), Новое литературное обозрение, 75 (http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ia2-pr.html)
- Burgin D. (1996) «The Deconstruction of Sappho Stolz: Some Russian Abuses and Uses of the Tenth Muse», Engendering Slavic Literature. Eds. Pamela Chester, Sibelan Forrester (Bloomington-Indianapolis)
- French L. (1996) German Women as Letter Writers: 1750-1850 (Madison, N. J.)
- Friedrichsmeyer S. (1983) The Androgyne in Early German Romanticism (Bern)
- Jean-Paul (1829) Pensees de Jean-Paul, extraites de tous ses ouvrages (Paris)
- Jean Paul (1836) Pensees de Jean-Paul, extraites de tous ses ouvrages, 2 ed. (Paris)
- Jean Paul (1990) Vorschule der Asthetik/Nach der Ausgabe von Norbert Miller (Hamburg)
- Ladjali C. (2008) «"When I write, I am sexless"», Diogenes 208
- Platon (1822-1832) OEuvres de Platon, Traduites par Victor Cousin (Paris).
- Reid R. (1995) Pushkin's Mozart and Salieri: themes, characters, sociology (Amsterdam-Atlanta)
- Stael, Madame de (1850) De l'Allemagne (Paris)