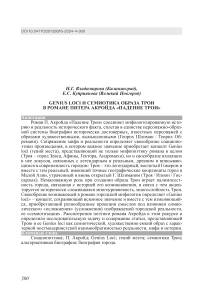Genius loci и семиотика образа трои в романе Питера Акройда "Падение Трои"
Автор: Владимирова Н.Г., Куприянова Е.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Роман П. Акройда «Падение Трои» соединяет мифологизированную историю и реальность исторического факта, сплетая в единстве персонажно-образной системы биографии исторически достоверных, известных персонажей с образами художественными, вымышленными (Генрих Шлиман / Генрих Обреманн). Сопряжение мифа и реальности определяет своеобразие спациопо-этики произведения, в котором важное значение приобретает концепт Genius loci (гений места), представляющий не только мифопоэтику романа в целом (Троя - город Зевса, Афины, Гектора, Андромахи), но и своеобразие входящих в нее локусов, связанных с легендарным и реальным, древним и вписывающимся в современность городом: Троя - это легендарный, воспетый Гомером и вместе с тем реальный, имеющий точные географические координаты город в Малой Азии, утраченный и вновь открытый Г. Шлиманом (Троя / Илион / Гиссарлык). Немаловажную роль при создании образа Трои играет палимпсестность города, связанная с историей его возникновения, в связи с чем акцентируется исторически сложившаяся многоуровневость, многослойность Трои. Своеобразие возникающей в романе городской мифологии определяет «Genius loci» - концепт, сохраняющий исконное значение и вместе с тем изменяющийся, приобретающий разнообразные проекции смыслов под влиянием символического «осложнения» (усложнения) изображаемой городской реальности, ее «семиотизации». Рассмотрение поэтики романа Акройда в этом ракурсе и определило исследовательскую задачу и содержание статьи, представляющей Трою и ее Genius loci как семиотический, художественно емкий образ с характерной постмодернистской взаимообратимостью реальности, мифа и истории.
Спациопоэтика, п. акройд, genius loci, гений места, семиотика трои, альтернативная биография, биография города
Короткий адрес: https://sciup.org/149147197
IDR: 149147197 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-300
Текст научной статьи Genius loci и семиотика образа трои в романе Питера Акройда "Падение Трои"
Spatiopoetics; P. Ackroyd; Genius Loci; genius of place; semiotics of Troy; alternative biography; biography of the city.
Роман П. Акройда – произведение полижанровое, соединившее в себе черты повествования исторического (история людей и мира), биографического (история главного героя романа Генриха Оберманна, воспроизводящая жизнь и знаменитые открытия известного немецкого археолога Генриха Шлимана (1822–1890), который обнаружил легендарную Трою из «Илиады» Гомера), мифологического (персонажно-образная система произведения, его сюжетика вбирает в себя разнообразный спектр античных мифов). Однако, прежде всего, это «история людей, разворачивающаяся на фоне истории мира, на фоне древнего города, сыгравшего исключительную роль в становлении европейской цивилизации» [Липчанская 2011, 102].
Как и в романе «Лондон», в «Падении Трои» П. Акройд неразрывно связывает биографию главного персонажа с биографией древнейшего города, которая вписывается в историю так называемой городской мифологии, создает общекультурную, историческую, универсальную и вместе с тем национальную (магистральную для романа) спациологическую проекцию. История города отражается в двойственности его названия, определяющего и двойственность ракурса романного повествования: реально-ирреальный город Троя и древнейший Илион, воспетый Гомером в «Илиаде». В романе Акройда Троя описывается как город, имеющий географические координаты и вместе с тем это город, возникающий в воображении археолога-любителя Генриха Обер-манна, ведущего раскопки.
Образ города становится семиотически насыщенным, городская реальность приобретает символическую проекцию, целостность единого символического текста [Горелова 2018, 30–31].
С уникальным в истории цивилизации городом связано фигурирующее в романе понятие Genius loci (гений места), ставшее определяющим для спаци-опоэтики романа. Genius loci был известен еще в Древнем Риме как покровитель места и изображался двояко: в виде человеческой фигуры, совершающей обряд, или ползущей к алтарю змеи. А.Ф. Лосев связывал с этим понятием ранние представления человека об анимистическом существе, которое определялось как безличная, недифференцированная космическая сила. Известный ученый не рекомендовал их атрибутировать как метафоры, метонимии, гиперболы или же тропы [Лосев 1996].
Genius loci – концепт многосмысленный и может выступать как философская концепция, эстетическая, теоретико-методологическая категория. Он бытует как в самых разных культурах и отраслях гуманитаристики (история культуры, этнография, антропология, теория архитектуры, ландшафтоведе-ние), так и, далеко не в последнюю очередь, в литературе и искусстве.
В художественной литературе Genius loci укоренился во времена Античности, причем греческий демон (daimön) был полностью идентичен римскому гению (genius – породитель). Греки видели в daimön страшную силу, мгновенно появляющуюся и исчезающую, эта сила не может быть ни понята человеком, ни названа им. Территория, подвластная демону, иерархична: это город, деревня, поселение, отдельный дом, равно как и весь мир в целом [Лосев 1996, 69]. Однако присутствие гения оказывается определяющим, поскольку связано не только с местом, но и с человеком. В римской трактовке в отличие от греческой акцентировалась не столько неведомая сила гения / демона, сколько само его незримое присутствие в жизни каждого человека. «Считалось, что гений есть у каждого человека, семьи, рода, племени. Существовала вера в то, что гении заведуют каждым шагом человека, меняются и даже умирают вместе с ним» [Полякова 2011, 47], – замечает И.А. Полякова.
Генетически связанное с мифологией словосочетание Genius loci вошло в античную литературу вместе с «Энеидой» и «Георгиками» Вергилия, упоминается оно у Плавта и Пруденция. В английской литературе это понятие, как известно, связано с именем писательницы, историка и теоретика культуры Вайолет Паже, писавшей под псевдонимом Вернон Ли (Vernon Lee). Согласно ее представлениям, Genius loci не столько привязан к строго закрепленному месту, сколько растворен в природе. Вернон Ли считает его «субстанцией» сердца и ума, отмечая «неличностную реальность» концепта, то есть сугубо духовную сущность. Концепту Genius loci посвящен ряд эссе писательницы, прожившей значительную часть жизни в Италии: «Genius Loci» (1899); «Чарующие леса» («The Enchanted Woods», 1905); «Дух Рима» («The Spirit of Rome», 1906); «Сентиментальный путешественник, Путевые заметки» («The
Sentimental Traveller, Notes on Places», 1908) и др. В первом из вышеназванных сборников есть очерки, адресованные «дому нимф» или «зачарованному лесу». Автор утверждает, что в тосканской местности обитают гении места – таинственные, мистические, духовные существа – «сущность нашего сердца и ума». О гении места она пишет: «Что же до его видимого воплощения, то оно – сам город, сама местность, как она есть в действительности; черты, речь его – это форма земли, наклон улиц, звуки колоколов или мельниц и больше всего, может быть, особенно выразительное сочетание города и реки, отмеченное Вергилием…» (цит. по: [Анциферов 1991, 30]). Поэтому Вернон Ли советует путешествовать в обществе «собственных желаний и фантазий», возникавших, как она отмечает, во время ее собственных велосипедных прогулок или загородных путешествий на пони. Поскольку Genius loci не является антропоморфной сущностью, то его можно почувствовать в деталях пейзажа, запомнившихся звуках, запахах, связанных с определенным местом, живущих в воспоминаниях и воспринимаемых, согласно метафорическому определению Вернон Ли, «глазом тела» и «глазом духа».
Вернон Ли была далеко не единственным автором многочисленных очерков и эссе, посвященных Genius loci. «Ассоцианистские тенденции рассуждений Вернон Ли о духе места, – отмечает И.А. Полякова, – находятся в русле влияния на ее творчество идей “психологической эстетики” Теодора Липпса (1851–1914), а также эстетических концепций Вальтера Патера (1839–1894) и Вильгельма Воррингера (1881–1965)» [Полякова 2011, 47].
В ХХ столетии Genius loci получил дальнейшую разработку в знаменитых трудах по архитектуре К. Норберга-Шульца [Norberg-Schulz 1979] и К. Тилли [Tilley 1994]. Они отмечают привязанность Genius loci к известнейшим городам с давней историей.
Поскольку Троя – город уникальный даже в ряду древнейших знаменитых городов, можно говорить о сложившейся, многосмысленной и пополняемой его биографии. Каждый связанный с Троей исторический факт предстает как часть его уже сложившейся мифологической и исторической биографии. Это город Зевса и, как уверяет Генрих Оберманн, бог все еще незримо здесь присутствует. Он убежден, что народные мифы основаны на фактах, поэтому свои археологические открытия он поверяет «Илиадой» Гомера, веря в достоверность описываемых в поэме событий. Поскольку Оберманн «считает, что каждое слово Гомера истинно» [Акройд 2012, 18], он использует гомеровскую поэму в качестве путеводителя.
В романе Троя осмысливается не только как миф, mysterium tremendum (лат. «тайна поражающая»), но и как текст, и одновременно как «пейзаж души». Город антроморфен и антропоцентричен. Оберманн называет его «дитя, воскресшее из мертвых спустя тридцать одно столетие». Таким образом, семиотика города включает в роман онтологическую и экзистенциальную проекции: «Люди гордятся своей историей. Им нравится думать о собственной связи с героями Трои» [Акройд 2012, 32].
«Открытая всем ветрам» Троя, как называл ее Гомер, не только первый, самый знаменитый и древнейший город на земле, но и город «вне времени» [Акройд 2012, 1]. В романе Троя определяется как «неповторимый город», «первый город», «исконный»: «Древние историки утверждали, что Троя не была полностью разрушена, но оставалась населенной и никогда не переставала существовать [Акройд 2012, 9]. Разветвленная семиотика города определяет начало традиции городской мифологии и особенности текста, ей адресован- ного: «Идея Трои живет тысячи лет» [Акройд 2012, 76]; и далее: «Здесь мы становимся частью мировой души» [Акройд 2012, 129].
Этот город отличает палимпсестность, связанная с историей его возникновения. В романе акцентирована его исторически сложившаяся многоуровне-вость, многослойность: «Шесть разных поселений на протяжении двух тысяч лет. Каждый раз город строился частично на руинах своего предшественника» [Акройд 2012, 34]; «То, что предстает перед глазами современников – слои торта, созданного людьми» [Акройд 2012, 13].
В романе подчеркивается, что город, известный современным местным жителям как Гиссарлык, реален, дается географически точное описание его расположения: на севере «через троянскую равнину в направлении Дарданелл и Геллиспонта», в местности, где видны «покрытые снегом вершины гор Иды», а по другую сторону расположены «береговая линия, море и отдаленный остров Тенедос» [Акройд 2012, 16]. Это создает впечатление достоверности его существования.
Как реально существовавший город Троя имеет историю своего происхождения. Один из персонажей романа – французский профессор Лино –гипотети-чески связывает возникновение Трои со священным местом, где существовало святилище некоего бога или гробница великого правителя, поэтому первыми жителями Трои, как он утверждает, стали жрецы или же стражи священного места – последних иначе можно именовать как Genius loci. Лино убежден, что город ориентирован по звездам. Все это, по мысли профессора, объясняет, почему Гомер воспел его в «Илиаде» и за него на протяжении веков так яростно сражались люди.
Рядом с этими гипотезами – мифологическая история священного города, определяющая Трою как город Зевса. Этот бог, у которого сотни имен, – Genius loci Трои. Согласно легенде, Зевс однажды решил, что каждый бог должен покровительствовать своему городу, который необходимо было выбрать. Сам Зевс выбрал Трою и «все еще <…> здесь» [Акройд 2012, 16], – верят персонажи романа. Случившееся землетрясение воспринимается ими как явленность богов, их голос: «К Зевсу присоединились сыновья Теллус, богини Земли!» [Акройд 2012, 70]; в Трое «кроется нечто более древнее. Более темное. Предзнаменование. Предостережение» [Акройд 2012, 72]; на этой древней земле «время знамений не прошло» [Акройд 2012, 24].
Образом-символом, сигнализирующим о присутствии бога, становится образ танцора / танцоров, пронизывающий весь роман. С его помощью Акрой-ду удается связать легендарное прошлое, миф и реальность природных явлений: так, например, определение равнины Трои как «танцующей» перекликается с ремаркой о том, что «танцоры сопровождали богов, когда те посещали смертных» [Акройд 2012, 46], и символичным описанием трепещущего над пламенем горячего воздуха, в котором Софии «привиделись фигуры танцоров» [Акройд 2012, 107].
Троя в ее целостности – город Зевса, однако и отдельные его топосы связаны с именами покровительствующих им Genius loci. Таким образом в романе выстраивается своеобразная иерархия богов и героев – покровителей Трои. Так, в соответствии с мифом, одна из стен Трои была возведена Посейдоном и Аполлоном. Найдя в раскопе сокровища Трои – золотую фибулу из слоновой кости, крышку сосуда электрума, серебряную ложку, – Оберманн задает Софии риторический вопрос: «Ты ощущаешь присутствие Андромахи и Гекубы?» И утверждает: «Эти драгоценности они носили в своей крепкостенной Трое!» [Акройд 2012, 21].
В мифопоэтике романа особое место занимает образ, не только привносящий в семиотику Трои важную мифологическую составляющую, но и скрепляющий его разветвленную семиотику. Это богиня Афина, старшая дочь Зевса. С одной стороны, Оберманн считает ее своей Genius loci, он говорит: «Афина присматривала за мной. Она спасла меня от морского бога, как спасала героев Греции. Она покровительствует мне!» [Акройд 2012, 29].
С другой стороны, образ Афины в романе связывается с концептами ночи и смерти. В разговоре профессора Лино с Софией речь идет о совах, тотемных птицах Афины: «Богиня Трои Афина известна как glaucopis, “совоокая”», – говорит Лино. «В моей стране, – отвечает София, – они (совы. – Н.Г., Е.С .) считаются птицами смерти» [Акройд 2012, 15]. Очевидно, что привычное восприятие совы как символа мудрости, актуализированное тотемной связью с Афиной, в данном случае уступает место более древней ветви символизма образа, восходящей к восточной традиции и представляющей сову как зловещую, мистическую птицу: «Ее считали птицей смерти в Древнем Египте, Индии <…>, а в некоторых традициях ее почитали как покровителя ночи и посланца загробного мира, призванного провожать души в царство мертвых» [Трессидер 1999, 346]. Данная проекция образа сополагает в романе мифологическую историю с событиями, разворачивающимися в исторической реальности: «Сова – птица ночи. Она сидела на копье Пирра, когда тот двинулся на Аргос. <…> Герр Оберманн говорил вам об украшенных совиными головами сосудах, которые найдены здесь? Они уникальны. Троя – место смерти и ночи» [Акройд 2012, 15].
Апелляция к исторически достоверному эпизоду похода Пирра на Аргос усложняет семантику Трои как территории, которая неоднократно уничтожалась войнами и пожарами. Древний город получает дополнительную коннотацию – «место смерти и ночи». Последняя, помимо всего прочего, найдет дальнейшую сюжетную реализацию в судьбе Генриха Оберманна. Образ-символ совы таким образом выполняет и профетическую роль, предвещая гибель героя под копытами своего коня Пегаса в конце романа.
Амбивалентность, палимпсестность Трои, которая является «началом мира», «первым городом», исконным и неповторимым, городом-легендой, пережившим падение и восстающим в процессе раскопок одновременно из мифа и исторического небытия, – всю эту сложносоставную семиотику Трои П. Акройду удается передать за счет еще одного емкого образа, также претендующего на статус Genius loci. Это уходящая вглубь самой истории воронка археологического раскопа, на дне которой должна быть обнаружена «самая древняя Троя». Любопытно, что в восприятии Софии статика земляной воронки преобразуется в динамику и мощь водоворота, вихря, в центре которого – древний город.
Вместе с тем Троя, постулируемая как город, возникший на территории Малой Азии (нынешней Турции), имеет и местного Genius loci, черты которого вбирает в себя образ Кадри-бея, курирующего с турецкой стороны раскопки древнего города: «Казалось, он воплощал собой незнакомое благочестие этих мест, где в рощах появлялись богини, а в небо взмывали орлы со змеями в клюве» [Акройд 2012, 24].
В галерее эмблематически значимых персонажей, личная история которых неразрывно связана с различными аспектами семиотики легендарного города Трои, существенная роль, безусловно, отводится протагонисту романа Генриху Оберманну, прототипом которого в исторической реально- сти, как уже говорило сь выше, является Генрих Шлиман. Не удивительно, что образ главного персонажа «Падения Трои» включает в себя «пейзаж души» легендарного города и одновременно этой исторически значимой и достоверной фигуры.
Тем не менее созданная П. Акройдом «биография» древнейшего города и связанной с его историей личности атрибутируется как альтернативная, постмодернистский характер которой очевиден, что не предполагает ни точного соответствия индивидуальности персонажа и его прототипа, ни абсолютной исторической достоверности обнаруженной им легендарной Трои [Березань 2011, 47].
По словам Г. Штоля, Шлиман «пережил приключения, выпадающие обычно лишь на долю героям романа или сказки», он «открыл целое тысячелетие греческой истории и заставил заговорить даже камни» [Штоль 2005, 3–4]. Однако, как известно, на месте раскопок на холме Гиссарлык была обнаружена не одна, «гомеровская» Троя, а целых девять культурных слоев. Оберманн, как и Шлиман, руководствуется указаниями гомеровской «Илиады», самым древним из ныне известных списков которой является хранящийся в Лондоне греческий манускрипт I в. н.э. Легендарный Гомер рассказал о событиях эпохи бронзового века – XIII в. до н.э. Шлиман же, как известно, буквально «вскрыв» Гиссарлык 15-метровой ямой, углубился в пласты III тысячелетия до н.э., тем самым практически уничтожив все, что находилось выше, в том числе – и 6-й, «гомеровский», слой.
Ирония ситуации заключается в том, что, по мнению Г. Шлимана, падение Трои, самой укрепленной крепости того времени с пятиметровой толщиной стен и десятиметровой их высотой, защищавших древний город, происходит в результате ряда затяжных войн, атак варваров, а также природных катастроф и пожаров. Однако он сам стал тем человеком, кто, доказав реальность легенды, ее же и уничтожил.
Вместе с тем легендарный город не исчез ни из истории, ни из живой памяти людей, ни из искусства и художественной литературы. Образ вечного города сохранился в мифах и легендах, в посвященных ему произведениях литературы и искусства. Город, реалии которого усилиями археологов возникают из раскопок, оживает в художественном сознании писателей. В романе П. Акройда Троя и ее Genius loci – это семиотический, реальный и художественно условный образ, соединивший в себе историю и миф в единстве художественного целого с характерной для них взаимообратимостью.
Список литературы Genius loci и семиотика образа трои в романе Питера Акройда "Падение Трои"
- Акройд П. Падение Трои: роман. М.: Издательство Ольги Морозовой, 2011. 304 с.
- Анциферов Н.П. «Непостижимый город.». Л.: Лениздат, 1991. 335 с.
- Березань М.П. Исторический Платон и его философия в постмодернистской биографии Питера Акройда «Повесть о Платоне» // Историческая поэтика жанра. 2011. Вып. 4. С. 39-47.
- Горелова Ю.Р. Город как концепт и визуально-художественный образ // Урбанистика. 2018. № 1. С. 74-89.
- Липчанская И.В. Образ Трои в романе Питера Акройда «Падение Трои» // Известия Саратовского университета. Сер. Филология. Журналистика. 2011. Т. 11. № 4. С. 101-106.
- Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996. 975 с.
- Полякова И.А. Антропология места, или Культурные метаморфозы genius loci // Вопросы культурологии. 2011. № 10. С. 46-51.
- Тресиддер Д. Словарь символов. М.: Гранд: ФАИР-Пресс, 1999. 448 с.
- Штоль Г. Шлиман: Мечта о Трое. М.: Книжный дом Университет, 2005. 430 с.
- Norberg-Schulz C. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli, 1979. 213 p.
- Tilley Ch. A Phenomenology of Landscape: Places, Paths, and Monuments. Oxford: Providence, 1994. 221 p.