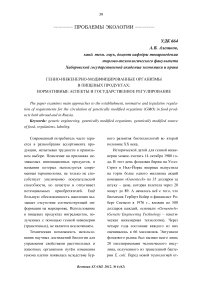Генно-инженерно-модифицированные организмы в пищевых продуктах: нормативные аспекты и государственное регулирование
Автор: Алешков А.В.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы экологии
Статья в выпуске: 6, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные подходы к установлению, нормативному и законодательному регулированию требований к обращению генетически модифицированных организмов (ГИО) в пищевых продуктах как за рубежом, так и в России.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319743
IDR: 14319743
Текст научной статьи Генно-инженерно-модифицированные организмы в пищевых продуктах: нормативные аспекты и государственное регулирование
Современный потребитель часто теряется в разнообразии ассортимента продукции, испытывая трудности в правильном выборе. Появление на прилавках незнакомых инновационных продуктов, в названии которых используется современная терминология, не только не способствует увеличению покупательской способности, но зачастую и отпугивает потенциальных приобретателей. Ещё большую обеспокоенность населения вызывает отсутствие соответствующей информации на маркировке. Использование в пищевых продуктах ингредиентов, полученных с помощью генной инженерии (трансгенных), не является исключением.
Техническая возможность использования научных достижений биологии для управления свойствами растительных и животных организмов путём изменения генома клетки появилась вследствие бур- ного развития биотехнологий во второй половине ХХ века.
Исторической датой для генной инженерии можно считать 14 октября 1980 года. В этот день фондовая биржа на УоллСтрит в Нью-Йорке впервые выпустила на торги более одного миллиона акций компании «Genentech» по 35 долларов за штуку – цене, которая взлетела через 20 минут до 89. А началось всё с того, что биохимик Герберт Бойер и финансист Роберт Свенсон в 1976 г., вложив по 500 долларов каждый, основали «Genentech» (Genetic Engineering Technology – генетическая инженерная технология). Через четыре года состояние каждого из них оценивалось в 66 миллионов. Энтузиазм фондового рынка был вызван всего лишь 20 миллиграммами человеческого инсулина, полученного из трансгенной бактерии Е. coli. Перед новой технологией от- крывались поистине фантастичные перспективы. В отличие от селекции, допускающей взаимодействие только между родственными видами, генная инженерия предполагала придание практически любых требуемых свойств как прокариотам, так растениям и высшим животным, включая человека. Уже сегодня генно-инженерно-модифицированные организмы (ГМО) нашли применение в медицине, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, в том числе в производстве пищевых продуктов. Развитие генной инженерии осуществляется на трёх глобальных объектах – микроорганизмах, растениях и, в значительно меньшей степени, на животных.
В области пищевой промышленности производству генетически модифицированных растительных продуктов отводится значительная роль в решении глобальной продовольственной проблемы. Экономическая эффективность их производства связана с приданием растениям новых свойств – устойчивости к гербицидам, вирусам, засухе и холоду, насекомым-вредителям, улучшением химического состава, пищевой и биологической ценности, гипоаллергенности или уникальной декоративности [2]. Так, первым трансгенным растением, появившимся в 1994 г. на полках супермаркетов, стал томат FLAVR SAVR фирмы « Calgehe Inc.» с геном арктических рыб. Его отличала способность храниться месяцами в недоспелом виде при температуре 12 ° С, но, будучи помещённым в тепло, томат достигал спелости за несколько часов.
В то же время для всего прогрессивно мыслящего человечества характерна обеспокоенность относительно влияния ГМО на здоровье, репродуктивность, биоразнообразие. Среди сторонников и противников ГМО есть множество мнений, однако ни общественность, ни учёный мир не остаются равнодушными к этой проблеме.
В этой связи нормативное обеспечение и государственное регулирование отношений, связанных с производством и оборотом ГМО на международном, региональном и национальном уровнях, является актуальной задачей, поныне стоящей перед международными организациями и правительствами государств.
Впервые о возможном риске использования ГМО говорилось ещё до их промышленного производства в 1975 г. в рамках Асиломарской конференции. После открытия рекомбинантной ДНК в научной среде возникли вопросы, касающиеся возможного создания устойчивых вирусов, представляющих угрозу общественному здоровью, в связи с чем был разработан и согласован черновой вариант «Руководства по физическим и биологическим ограничениям наиболее опасных экспериментов». Основные принципы этого документа легли в основу «Руководства по работе в области современной биотехнологии», разработанного в 1976 г. Консультативным комитетом по рекомбинантным ДНК национальных институтов здравоохранения США. Впоследствии этому примеру последовали и другие страны. Целью первых законодательных требований стало исключительно предотвращение случайного попадания в окружающую среду микроорганизмов, разрабатываемых исследовательскими лабора- ториями. Впоследствии были разработаны также правила, касающиеся ограничения работы с ГМО и содержащие требования к домаркетинговой оценке риска ГМО для здоровья человека и окружающей среды, учитывающие, что подобные объекты не имеют истории безопасного использования. В июне 1992 г в Рио-де-Жанейро в ходе конференции Организации Объединённых Наций (ООН) была принята Конвенция по биологическому разнообразию, ратифицированная 145 странами мира (Россия в этот перечень не вошла). В качестве одного из основных принципов Конвенции декларировалось эффективное участие в биотехнологических исследованиях, особенно развивающихся стран, и приоритетного доступа к результатам и материальным благам от таких исследований на взаимовыгодной основе. Каждая страна-участница должна была разработать национальную стратегию и программу сохранения и длительного использования биологического разнообразия, включая меры по установлению и утверждению способов регулирования, управления и контроля над рисками создания и использования ГМО.
Таким образом, Конвенция, поощряя исследования в области генной инженерии, в то же время установила определённые заграждения для стран-участниц, впрочем, предоставив право правительствам государств самостоятельно принимать решение о пользе или вреде трансгенной продукции.
В январе 2000 г. в Монреале (Канада) был принят Картахенский протокол по биобезопасности. Впервые его положения были обсуждены в 1999 г. на конферен- ции в колумбийском городе Картахена-де-Индиас, однако тогда вследствие разногласий сторон его принятие было отложено. В течение нескольких лет протокол ратифицировали 57 государств. Остальные 136, представители которых участвовали в обсуждении (в том числе и России), ещё не взяли на себя обязательства выполнять его положения, и до сих пор проблемы биотехнологической безопасности в них регулируются локальными нормативными актами или не регулируются вообще. В протоколе впервые был прописан принцип предосторожности: если какой-либо вид деятельности заключает в себе угрозу или вероятность нанесения ущерба здоровью человека или окружающей среде, меры предосторожности должны приниматься, даже если причинно-следственная связь до конца научно не обоснована. Применительно к проблеме ГМО подразумевалось, что страна имеет право отказаться от импорта трансгенной продукции, опасаясь недоказанных вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей. Такой подход стал впоследствии характерен для стран ЕС. Протокол требовал, чтобы экспортёры ГМО заранее уведомляли компетентные национальные органы об их трансграничном перемещении. Такая информация должна передаваться с помощью механизма «Biosafety ClearingHouse » (в русском переводе - механизм посредничества по биобезопасности [7]), созданного в рамках протокола для «обеспечения обмена научной, технической и юридической информацией по вопросам защиты окружающей среды и воздействию ГМО, а также для оказания по- мощи странам-участницам протокола». Протокол также содержал требования по маркировке, транспортированию, оценке и менеджменту рисков, возникающих при перевозке ГМО.
Помимо Конвенции о биологическом разнообразии и Картахенского протокола, с целью регулирования оборота ГМО было принято несколько важных документов на уровне международных организаций. Так, в ноябре 2001 г. Конференция продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) ратифицировала международный договор о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства, обеспечивающий согласованную международную основу сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства.
На базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была сформирована Межправительственная комиссия по биотехнологии - межгосударственный орган, участвующий в разработке стандартов, руководств и рекомендаций по производству продуктов, созданных с помощью биотехнологий. Комиссия Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius Commission ) - ещё одна организация, созданная ФАО и ВОЗ для разработки стандартов в области продовольственной безопасности. В настоящий момент отношения в области ГМО регулируют положения следующих нормативных документов Комиссии:
-
- CAC/GL 44-2003 «Принципы анализа рисков, которые несут продукты, полученные при помощи современной биотехнологии»;
-
- CAC/GL 45-2003 «Руководство по проведению оценки безопасности про-
- дуктов, полученных из растений на основе технологии рекомбинантной ДНК».
Нельзя не отметить, что ФАО признала потенциальные преимущества сельского хозяйства, основанного на использовании генетически модифицированных продуктов, для беднейших регионов планеты [1]. В соответствии с заключением ВОЗ «генетически модифицированные продукты питания, имеющиеся в настоящее время на международном рынке, прошли процедуру оценки риска, и вероятность того, что они ассоциированы с большим риском для здоровья человека, чем традиционные аналоги, незначительна». По мнению экспертов ВТО, запрещение трансгенных продуктов в ряде стран не имеет под собой научной основы и обусловлено протекционистскими целями. В мировой практике для оценки риска использования ГМО применяется так называемый принцип существенной эквивалентности ( substantial equivalence ), разработанный ФАО, ВОЗ и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в начале 1990-х годов. В соответствии с ним генетически модифицированные продукты питания можно считать столь же безопасными, как и обычные продукты, если их основные токсикологические и пищевые компоненты сравнимы в рамках естественного уровня изменчивости. В этой связи принципы оценки безвредности генетически модифицированных продуктов питания, разработанные в 2003 г. Комиссией Codex Alimentarius , требовали всестороннего изучения следующих параметров:
-
- непосредственное влияние на здоровье (токсичность);
– стимуляция аллергических реакций (аллергенность);
– наличие специфических компонентов, признанно обладающих токсичными свойствами;
– стабильность встроенного гена;
– питательные свойства, ассоциируемые со специфической генетической модификацией;
– любые непреднамеренные эффекты, которые могут быть результатом генетической модификации.
Несмотря на то, что эти принципы не имеют обязывающего действия по отношению к национальным законодательствам, на них часто ссылаются при разрешении торговых конфликтов.
В Европейском союзе законодательное регулирование ГМО ведёт историю с момента принятия в 1990 г. директивы 90/220/ЕЭС «Об осторожности при поступлении в окружающей среду генно-модифицированных организмов». C тех пор на территории ЕС были одобрены и разрешены к использованию три генетически модифицированные вакцины, один сорт табака, по четыре сорта рапса и кукурузы, один сорт соевых бобов, один сорт цикория и три сорта гвоздики [6].
С октября 1998 г. в ЕС не было выдано ни одного разрешения на новые линии ГМО, несмотря на подачу 13 заявок. В литературе этот период обычно называют пятилетним мораторием Европейского союза на ввоз и коммерческое выращивание новых трансгенных пищи и организмов. К этому же периоду относится понятие «зона, свободная от ГМО» ( GMO free zone ), впервые прозвучавшее в 1998 г. в заявлении Британского отделения Партии природного закона ( Natural Law Party ) 24
сентября 1998 года. Это понятие включало в себя запрет на выращивание генетически модифицированных культур на всех землях, которыми владеет Совет графства, а также запрет на использование генетически модифицированных ингредиентов в продуктах питания во всех государственных учреждениях, включая школы, медицинские учреждения, дома престарелых. В ноябре 2003 г. в Риме (Италия) была создана Ассамблея регионов, свободных от ГМО. В её состав вошли администрации регионов Италии и политические партии.
С 17 октября 2002 г. главным актом ЕС по обороту ГМО стала директива 2001/18/ЕС «Об осторожности при поступлении в окружающую среду генетически модифицированных организмов и отмене директивы 90/220/ЕЭС», к сфере регулирования которой была отнесена продукция с использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов.
За время существования моратория на одобрение новых сортов ГМО Европа так укрепила свою законодательную базу, что его отмена летом 2003 г. абсолютно не ослабила её позиции. В частности, вступили в силу регламенты 1829/2003 «О генетически модифицированной пище и корме» (Regulation on GM food and feed) и 1830/2003, касающиеся контролируемого распространения и маркировки генно-инженерно-модифицированных организмов, пищи и кормов (Regulation on traceability and labelling of GMOs and traceability of food and feed products produced from GMOs). С этого периода в странах Европейского сообщества маркируют все пищевые ингредиенты, произве- дённые из генетически модифицированных культур, даже не содержащие ДНК, то есть крахмал, растительные масла, подсластители. Большая часть торговых сетей отказались от продажи ГМО на своих прилавках. Из-за большого количества согласований и финансовых затрат невыгодно стало и выращивать ГМО.
В январе 2005 г. на Первой конференции регионов, свободных от ГМО, был принят Берлинский манифест «О зонах, свободных от ГМО, регионах и биоразно образии в Европе».
В законодательстве Европейского союза о генномодифицированных объектах получил развитие институт «прослеживаемости» ( tracebility ) продукции, содержащей ГМО или произведённой из ГМО, а также самих ГМО. На всех стадиях её жизненного цикла проводятся контроль и проверка маркировочных заявлений, плановый мониторинг потенциальных воздействий на окружающую среду; разработаны процедуры отзыва и выяснения источников и адресатов поступления продукции. Передача и протоколирование этой информации снижает потребности в её испытаниях и тестировании.
Потеря крупными транснациональными корпорациями рынков сбыта в странах Европы вследствие ужесточения законодательства привела к экспансии генно-инженерно-модифицированных продуктов и на российском рынке. Попытки урегулировать отношения, связанные с оборотом ГМО на территории РФ, впервые были предприняты с введением Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» 1996 года. В нём было уза- конено определение ГМО: организм(ы), любые неклеточные, одноклеточные или многоклеточные образования, способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с применением методов генной инженерии и содержащие генноинженерный материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинации генов. Распространённое понятие ГМИ (генетически модифицированный источник) пищи имеет более узкую направленность и относится только к пищевым продуктам или их компонентам, полученным из генетически модифицированных растений.
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 14 от 8 ноября 2000 г. был определён порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы каждого впервые поступающего на внутренний рынок России ГМО, в соответствии с которым экспертиза осуществляется по трём направлениям: медико-генетическая оценка (Центр биоинженерии РАН), медико-биологическая оценка (ГУ НИИ питания РАМН), оценка технологических параметров продукта (МГУ прикладной биотехнологии Минобразования России). Результаты проведённой экспертизы представляются в Министерство здравоохранения и социального развития России, которое выдаёт разрешение на использование ГМО в пищевой промышленности и реализацию населению или мотивированный отказ.
Совершенствовались и методики определения ГМО. Стимулом к этому послужило подписание в 2003 г. Президен- том России В.В. Путиным Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу (№ Пр-2194). В этом документе были сформулированы следующие основополагающие задачи:
– обеспечение безопасности продуктов питания и лекарственных средств, произведённых из ГМО;
– обеспечение безопасности экологической системы от проникновения чужеродных видов организмов;
– прогнозирование генетических аспектов биологической безопасности;
– создание системы государственного контроля над оборотом генетически изменённых материалов.
В том же году были утверждены действенные качественные методики определения ГМО, нашедшие отражение в двух национальных стандартах:
– ГОСТ Р 52173-2003 Сырьё и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения;
– ГОСТ Р 52174-2003 Биологическая безопасность. Сырьё и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с применением биологического микрочипа.
Следует отметить, что принятие второго стандарта стало по-настоящему инновацией, так как метод биологического микрочипа для идентификации ГМО на тот момент нигде в мире не применялся.
Сегодня исследования пищевых продуктов на наличие ГМО должны проводиться в соответствии с утверждёнными главным государственным санитарным врачом Российской Федерации методическими указаниями:
– МУ 2.3.2.2306-07 «Медикобиологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»;
– МУК 4.2.2304-07 «Методы идентификации и количественного определения генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения»;
– МУК 4.2.2305-07 «Определение генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги, в пищевых продуктах методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени и ПЦР с электрофоретической детекцией»;
– МУ 2.3.2.1917-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего генетически модифицированные аналоги»;
– МУК 4.2.1902-04 «Определение генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции»;
– МУК 4.2.1913-04 «Методы количественного определения генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения в продуктах питания»;
– МУ 2.3.2.1935-04 «Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с использованием генетически модифицированных микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги».
Кроме того, с 1 января 2010 г. вступили в силу ещё два национальных стандарта на методы количественного определения ГМО, переведённые с международных:
– ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения;
– ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005) Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Методы, основанные на количественном определении нуклеиновых кислот.
В то же время до сих пор мы не имеем стандарта, регламентирующего методики количественного определения ГМО, основанного на анализе белковых компонентов, хотя такой международный документ действует уже несколько лет.
Следует обратить внимание на то, что принятая в России система оценки безопасности ГМО требует проведения более широкого спектра исследований, чем в других странах. Она включает в себя длительные токсикологические исследования на животных – 180 дней (Евросоюз – 90 дней), а также определение генотоксичности, геномный и протеомный анализы ( протеомный анализ – изучение белков и их взаимодействия в живых организмах) , оценку аллергенности. Эти многоплановые исследования осуществляются в целом ряде ведущих научноисследовательских учреждений системы Роспотребнадзора, РАМН, РАН, РАСХН и Минобрнауки России.
К пищевой продукции, в отношении которой проводятся такие исследования, относится продукция растениеводства, имеющая генетически модифицирован- ные аналоги, представленные на мировом продовольственном рынке (соя, кукуруза, рапс, рис, картофель, томаты, кабачки, дыня, сахарная свекла, папайя, лён), продукты её переработки и пищевые продукты, в состав которых они входят; пищевые продукты, содержащие жизнеспособную или нежизнеспособную технологическую микрофлору, а также выработанные с её использованием и освобождённые от неё в процессе технологии [3, 4].
Нецелесообразным также считается проведение исследований прочих пищевых продуктов, а также содержащих белков или ДНК менее 0,9 % (например, растительного масла, сахара-рафинада и т.п.): эта норма расходится с директивами ЕС, где предписано определять происхождение продукта, даже не содержащего ДНК и белок. Но там это можно сделать, благодаря развитому институту прослеживаемости, которого в России на сегодняшний момент просто не существует.
В Российской Федерации прошли полный спектр исследований и допущены к реализации и использованию в составе пищевых продуктов без ограничений 17 линий трансгенных растений, в том числе:
– соя линий 40-3-2 и MON 89788, устойчивая к глифосату («Monsanto Co» (США)); А2704-12, устойчивая к глюфосинату аммония («Bayer CropScience GmbH» (ФРГ)); А5547-127, устойчивая к глюфосинату аммония («Bayer CropScience GmbH» (ФРГ));
– кукуруза линий MОN810, устойчивая к кукурузному бурильщику Ostrinia nubilatis; GA21, устойчивая к глифосату; NK-603, устойчивая к глифосату; MON863 и MON88017, устойчивая к жу- ку Diabrotica spp. («Monsanto Co» (США)); MIR 604, устойчивая к жуку ди-абротика Diabrotica spp. (Syngenta Crop Protection AG (Швейцария)), кукуруза линии 3272, синтезирующая фермент альфа-амилазу (Syngenta Seeds Inc.); кукуруза линии Bt11, устойчивая к глюфосинату аммония и кукурузному бурильщику Ostrinia nubilalis (Syngenta Crop Protection AG); Т-25, устойчивая к глюфосинату аммония («Bayer CropScience GmbH» (ФРГ));
-
– рис линии LL62, устойчивый к глюфосинату аммония («Bayer CropScience GmbH» (ФРГ));
-
– картофель сортов Луговской 1210amk и Елизавета 2904/1 kgs (Центр «Биоинженерия РАН» (РФ));
-
– сахарная свёкла линии Н7-1, устойчивая к глифосату ( «Monsanto Co» (США)) [5].
Несмотря на большое количество исследований, в том числе отечественных, подтверждающих безопасность ГМО, выращивание трансгенных растений в Российской Федерации в промышленных объёмах пока не допускается.
Наличие или отсутствие в приобретаемом продукте компонентов, содержащих ГМО, должно быть отражено соответствующей маркировкой, наносимой на каждую единицу потребительской упаковки.
В мире существуют различные подходы к маркировке пищевых продуктов, полученных из ГМО. Так, в США, Канаде и Аргентине данные продукты особым образом вообще не маркируются. В Японии и Австралии принято маркировать продукцию с содержанием ГМО 5 % и более (таблица 1).
Таблица 1 – Маркировка пищевой продукции, содержащей ГМО, в различных странах
|
Страна |
Обязательная или добровольная маркировка |
Пороговое значение для маркирования, % ГМО |
|
Австралия и Новая Зеландия |
Обязательная |
1,0 |
|
Бразилия |
Обязательная |
4,0 |
|
Европейский союз |
Обязательная |
0,9 |
|
Канада |
Добровольная |
Указываются сведения только в том случае, если существуют данные о токсичности или аллергенности ГМО-линии |
|
КНР |
Обязательная |
1,0, обязательно указывается линия ГМО |
|
Южная Корея |
Обязательная |
Содержание ГМО указывается в том случае, если один или более компонентов пищевого продукта из пяти главных составляющих содержит более 3 % ГМО |
|
Норвегия |
Обязательная |
2,0 |
|
США |
Добровольная |
Указываются сведения только в том случае, если существуют данные о повышенной токсичности или аллергенности ГМО-линии |
|
Таиланд |
Обязательная |
5,0 |
|
Япония |
Обязательная |
5,0 от общей массы продукта. Продукты в упаковке объёмом менее 30 см3 не маркируются |
Регламент ЕС 49/2000 впервые урегулировал ситуацию случайного присутст- вия генетически модифицированного материала в традиционных продуктах. Он ввёл однопроцентный порог минимума для случайного присутствия генетически модифицированных остатков, при соблюдении которого обязательная маркировка не проводилась. С 2004 г. в европейских странах обязательная маркировка продукции не требуется, если содержание трансгенного компонента не превышает 0,9 % или если в продукции обнаруживаются случайные следы генетически модифицированного белка, компоненты трансгенного сырья, присутствие которых технически непреодолимо. При этом производители обязаны представить доказательства такой технической непреодолимости. В то же время неоднозначные оценки европейской общественности получил вопрос о маркировке мяса, молока, яиц от сельскохозяйственных животных, потреблявших генетически модифицированные корма, лекарства или вакцины. Произведённые такими животными продукты не маркируются в обязательном порядке так же, как и все остальные, произведённые при участии ГМО как вспомогательного средства.
В США, согласно законодательству, маркировка требуется для предоставления важной информации с целью предупреж- дения и инструктирования потребителя: считается, что всякая дополнительная, ненужная информация противоречит праву потребителя на выбор, основанный на его осведомлённости, и уменьшает действенность маркировки. Если в силу принципа «существенной эквивалентности» ГМО не считаются отличными от традиционных аналогов с точки зрения питания, состава или безопасности, упоминание на этикетке о генетической модификации может быть истолковано как информация, вводящая потребителей в заблуждение.
В законодательстве Канады, наоборот, запрещено маркировать продукцию как генетически модифицированную, если компонентов, полученных из ГМО, в ней менее 95 %. В основном это связано с охраной авторских прав, поскольку, как правило, все линии трансгенных растений патентуются.
В Российской Федерации за период с принятия Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» в 1996 г. значительно изменились подходы к маркировке трансгенных продуктов (таблица 2).
Таблица 2 – Маркировка продуктов, содержащих ГМО, в России
|
Нормативный документ |
Установленные нормы |
Комментарий |
|
05.07.1996 г. |
||
|
Закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» |
Необходимость сертификации продукции, содержащей результаты генно-инженерной деятельности, с указанием полной информации о методах получения и свойствах данного продукта |
Декларировалось предоставление информации о ГМО только органам по сертификации и испытательным лабораториям (центрам) |
|
14.11.2001 г |
||
|
СанПиН 2.3.2.1078-01 |
Для пищевых продуктов, содержащих более 5 % компонентов ГМИ , обязательна соответствующая информация, а также информация о государственной регистрации. Пищевые продукты, полученные из ГМИ и не содержащие ДНК и белок, в дополнительном этикетировании не нуждаются |
Впервые установлен 5 %-ный уровень содержания ГМИ в продукте, не нуждающийся в этикетировании, по аналогии с Японией и Австралией |
|
26.07.2004 г. |
||
|
МУ 2.3.2.1917-04 |
Обязательная маркировка при содержании в продукте более 5 % ГМИ . При содержании ГМИ от 0,9 до 5,0 % наносить специальную маркировку рекомендуется |
Два указанных в документе уровня и рекомендательный характер применения – следствие несовершенной лабораторной базы количественного определения ГМИ |
|
01.10.2004 г |
||
|
МУ 2.3.2.1935-04 |
Предоставление информации о генно-инженерно-модифицированных микроорганизмах (ГММ) |
Впервые появляется норма, связанная с предоставлением информации о генно-инженерно-модифицированных микроорганизмах (ГММ) |
|
21.12.2004 г. |
||
|
Закон «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального закона № 171-фз) |
Предоставление потребителю информации о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением ГМО |
Данная редакция подразумевала соответствующую маркировку независимо от количества ГМО в продукте |
|
01.09.2007 г |
||
|
СанПиН 2.3.2.2227-07 (дополнения №5 к СанПиН 2.3.2.1078 -01) |
Обязательна соответствующая информация для пищевых продуктов, полученных с применением ГМО, в том числе не содержащих ДНК и белок . Пищевые продукты, содержащие менее 0,9 % компонентов ГМО, при этом не считаются содержащими компоненты ГМО |
Содержание в пищевых продуктах менее 0,9 % компонентов, полученных с применением ГМО, считается случайной примесью. Возникают трудности с идентификацией продукции, не содержащей ДНК и белок |
|
25.10.2007 г. |
||
|
Закон «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального закона № 234-фз) |
Предоставление потребителю информации о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением ГМО, в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более 0,9 % |
Последняя действующая редакция обязывает маркировать продукты при содержании в их компонентах более 0,9 % ГМИ, даже если сами эти компоненты находятся в минорном количестве |
|
01.04.2008 г. |
||
|
СанПиН 2.3.2.2340-08 (дополнения № 6 к СанПиН 2.3.2.1078 -01) |
Для пищевых продуктов, полученных из живых и нежизнеспособных ГММ, а также с использованием ГММ обязательна соответствующая информация |
Все требования к маркировке ГМО собраны в одном нормативном документе СанПиН 2.3.2.1078-01 |
Сегодня подлежит этикетированию вся пищевая продукция с долей ГМО более 0,9 % (ранее – 5 %). После утверждения СанПиН 2.3.2.2227-07 «Дополнения и изменения № 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01» и внесения поправок в Закон «О защите прав потребителей» этот норматив гармонизирован с директивой ЕС от 22 сентября 2003 г. № 1829/2003.
Однако оставшиеся разночтения и недостаточно ясная формулировка понятия ГМО в этих документах создают противоречия и трудности в расчётах и подходах к маркированию пищевых продуктов сложного состава, содержащих компоненты ГМО. Кроме того, до сих пор не принят (и, по всей видимости, не будет) технический регламент Российской Федерации «О требованиях к безопасности пищевых продуктов, производимых из сырья, полученного из генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) растений и животных», а среди первоочередных проектов технических регламентов Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации подобный документ вообще не предусмотрен.
В то же время как международное, так и отечественное законодательство, регулирующее отношения производства и оборота ГМО, постоянно совершенствуется. По всей видимости, процесс этот будет продолжаться до полного признания ГМО пищевых продуктов безопасными.
Список литературы Генно-инженерно-модифицированные организмы в пищевых продуктах: нормативные аспекты и государственное регулирование
- Truth About Trade & Technology Modified Food's Moment?//www.truthabouttrade.org (дата обращения 25.02.2009 г.).
- Алешков, А. В. Генетически модифицированные организмы в пищевых продуктах: монография/А. В. Алешков, А. И. Окара. -Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2010. -188 с.
- Анисимова, О. В. Разработка подходов к организации и проведению гигиенического контроля за оборотом пищевой продукции, полученной из генно-инженерно-модифицированных организмов: автореф. дис.. канд. мед. наук/О. В. Анисимова. -М., 2009. -25 с.
- Тутельян, В. А. Генетически модифицированные источники пищи: оценка безопасности и контроль/В. А. Тутельян. -М.: РАМН, 2007. -444 с.
- Реестр свидетельств о государственной регистрации (единая форма Таможенного союза, российская часть)//fp.crc.ru/evrazes/?type=list (дата обращения 17.11.2011 г.).
- Сергеев, Ю. Д. Генно-модифицированные организмы, пища и корма в законодательстве Европейского союза/Ю. Д. Сергеев, Ю. Р. Храмова, И. Г. Галь//В сб.: Научные труды II Всероссийского съезда (Национального конгресса) по медицинскому праву. Россия, Москва, 13 -15 апреля 2005 года. -М.: НАМП, 2005. С. 266 -277.
- bch.cbd.int (дата обращения 17.11.2011 г.).