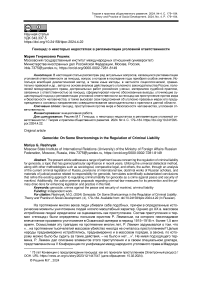Геноцид: о некоторых недостатках в регламентации уголовной ответственности
Автор: Решняк М.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся регламентации уголовной ответственности за геноцид, вопрос о котором в последние годы приобрел особое значение. Используя всеобщий диалектический метод, а также иные методы, в частности социологический, сравнительно-правовой и др., автор на основе анализа действующего уголовного законодательства России, положений международного права, доктринальных работ российских ученых, материалов судебной практики, связанных с ответственностью за геноцид, сформулировал научно обоснованные выводы, уточняющие существующий подход к регламентации уголовной ответственности за геноцид как преступление против мира и безопасности человечества, а также высказал свои предложения об уголовно-правовых мерах его предупреждения и основных направлениях совершенствования законодательства и практики в данной области.
Геноцид, преступления против мира и безопасности человечества, уголовная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149145290
IDR: 149145290 | УДК: 343.337.5 | DOI: 10.24158/tipor.2024.4.22
Текст научной статьи Геноцид: о некоторых недостатках в регламентации уголовной ответственности
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия, ,
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation, Moscow, Russia, ,
На протяжении многих веков люди убивали себе подобных, причем в определенные исторические моменты уничтожение людей носило масштабный характер. Однако до ХХ в. массовое истребление людей юридически не оценивалось как преступление. Состав преступления и термин «геноцид» были определены польским юристом Р. Лемкиным, на которого неизгладимое впечатление произвело уничтожение в Османской империи в период 1915–1918 гг. более 1,5 млн армян. Осмысливая эту трагедию на протяжении многих лет, Р. Лемкин задумывался о том, что «…на протяжении тысячелетий массовое убийство никогда не считалось преступлением? Целые народы преднамеренно истреблялись, преднамеренно и в массовом порядке, а закона, по которому можно было бы судить за такие действия, – не было и нет…»1. Не имея подходящего термина, Р. Лемкин дал описание элементов этого преступления и в своем специальном докладе, представленном на V Конференции по унификации международного уголовного права в Мадриде в октябре 1933 г., внес предложение об объявлении действий, направленных на уничтожение или разрушение расовых, религиозных или социальных групп, варварским преступлением по международному праву и о заключении международной конвенции, предусматривающей наказание за совершение действий подобного характера. Но в тот исторический момент его предложение не нашло поддержки. Впоследствии Р. Лемкин подобрал своему описанию состава соответствующий термин «геноцид» (Решняк, 2011: 15).
Геополитические события последних десятилетий актуализировали интерес к разноплановым исследованиям геноцида (Аванесян, 2009; Архипов, 2023; Иногамова-Хегай, Курносова, 2016; Ковнерев, Филипченко, 2023; Савенков, 2021; и др.). Впервые геноцид был назван преступлением в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 96 (I) от 11 декабря 1946 г., определившей, что «геноцид, с точки зрения международного права, является пре-ступлением»1, нарушающим нормы международного права. Затем в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 180 (II) от 21 ноября 1947 г. было подтверждено, что «геноцид является международным преступлением, влекущим за собой национальную и международную ответственность отдельных лиц и государств»2.
Несмотря на то что на Нюрнбергском процессе термин «геноцид» в речах обвинителей уже употреблялся, он не мог быть использован ни в одном приговоре в связи с тем, что подобная юридическая норма в действовавшем в тот период международном праве отсутствовала. Для ликвидации данного пробела была принята Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (далее – Конвенция)3, в которой закреплено юридическое определение состава геноцида как преступления (Решняк, 2011: 16).
В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) ответственность за геноцид установлена в ст. 357, согласно которой данное особо тяжкое преступление против мира и безопасности человечества заключается в действиях, направленных на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой посредством убийства членов соответствующей группы, причинения им тяжкого вреда здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения, а равно иного создания жизненных условий в расчете на физическое уничтожение членов данной группы. Однако определение геноцида, закрепленное в уголовном законодательстве России, хотя и основано на его международно-правовой трактовке, не полностью совпадает с ней. При сопоставлении диспозиции ст. 357 УК РФ с положениями ст. II Конвенции выделяются некоторые отличия в понимании данного деяния в национальном уголовном законодательстве.
Во-первых, в ст. 357 УК РФ говорится о причинении тяжкого вреда здоровью членам соответствующей социальной группы, тогда как в ст. II Конвенции – о причинении им серьезных телесных повреждений или умственного расстройства. Это отличие носит не только терминологический, но и содержательный характер, поскольку тяжкий вред здоровью согласно ч. 1 ст. 111 УК РФ включает как нанесение телесных повреждений, безусловно являющихся серьезными (потеря органа, утрата им своей функции и т. д.), и наступление психического расстройства потерпевшего, так и иные опасные последствия, включая заболевание наркоманией или токсикоманией. То есть российский законодатель в этой части формально расширил понятие геноцида, вместе с тем данное положение следует толковать с учетом такого ограничительного признака, как направленность совершаемых действий на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой. Иными словами, по уголовному делу о геноциде необходимо установить, что членам соответствующей группы причинен такой вред здоровью, который несет в себе угрозу полного или частичного уничтожения последней. Здесь имеет значение как тяжесть вреда здоровью, так и количество потерпевших, которым такой вред причинен, а равно мог быть причинен исходя из содержания умысла, мотивов и целей виновных, количества участвующих в преступлении лиц, формы их соучастия и объективных обстоятельств содеянного, в том числе используемых орудий и средств, места, времени, обстановки и масштабов приготовительной и последующей криминальной деятельности. Подчеркнем, что данные обстоятельства важны и для юридической оценки других деяний, которые могут относиться к геноциду, например убийств членов той или иной социальной группы, их насильственного переселения и т. д.
Во-вторых, в ст. 357 УК РФ не полностью воспринято положение ст. II Конвенции, отражающее такую форму геноцида, как предумышленное создание для какой-либо группы жизненных условий, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение. В диспозиции ст. 357 УК РФ не указывается предумышленный характер данных противоправных действий, а также повторно не обозначается направленность таковых на полное или частичное уничтожение группы людей. Это можно объяснить тем, что такая направленность в ст. 357 УК РФ указана применительно ко всем действиям, входящим в объем понятия геноцида, а вывод исключительно об умышленном характере данного преступления следует из его законодательного описания, включающего цель (направленность) совершаемых деяний. Если повторное указание в уголовном законе одного и того же признака состава преступления действительно является излишним, то закрепление в нем умышленной формы вины, в том числе с использованием термина «предумышленный», на наш взгляд, подчеркнет специфику геноцида, которому присущи планирование и иное приготовление к совершению действий, предназначенных, по замыслу виновных, для полной или частичной ликвидации значительной группы людей.
В-третьих, в ст. 357 УК РФ в отличие от ст. II Конвенции указано, что препятствование деторождению внутри той или иной социальной группы осуществляется исключительно насильственным путем, что, по нашему мнению, необоснованно сужает данную форму геноцида, закрепленную в международном праве, не позволяя отнести к ней иные действия, фактически препятствующие рождению детей среди представителей соответствующей группы или создающие условия для подобного препятствия, например состоящие в принятии нормативных актов, запрещающих заключение браков между лицами определенной национальности.
В связи с этим предлагаем внести в диспозицию ст. 357 УК РФ дополнения, изложив ее в следующей редакции : «Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного или иным образом воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы…»
Обратим внимание также на наказуемые деяния, связанные с геноцидом, перечисленные в ст. III Конвенции, среди которых не только сам геноцид, но и приготовление к нему и соучастие в данном преступлении, что влечет ответственность и по российскому уголовному закону, в том числе с применением положений ст. 30 и 33 УК РФ. Единственное деяние, которое выходит за рамки институтов неоконченного преступления и соучастия в преступлении, является публичное подстрекательство к осуществлению геноцида, совершаемое в форме призывов к соответствующим действиям, обращенных к широкому, неопределенному кругу лиц.
В настоящее время публичные призывы к геноциду наказуемы по ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»), введенной Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 260-ФЗ1, причем перечень деяний, к которым призывают виновные, в данном случае весьма широк: в него наряду с геноцидом включены разнородные преступления, в том числе взяточничество, организация незаконной миграции и т. д. При анализе этого перечня не покидает ощущение, что он составлен произвольно, без предварительного криминологического и уголовно-правового исследования относительно его наполнения, равно как и социальной обусловленности и юридической обоснованности введения ст. 280.4 УК РФ в целом (Карабанова, 2023: 73–74). Логическое и системное толкование ст. 280.4 УК РФ приводит к выводу о том, что законодатель в данном конкретном случае относит геноцид к проявлениям деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (Реш-няк, 2023: 304). Полагаем такой подход ошибочным, поскольку данное деяние в международном и российском праве рассматривается как преступление против мира и безопасности человечества (человечности), т. е. как исключительно опасное посягательство, противодействие которому требует объединения усилий сотрудничающих государств, действующих под эгидой ООН. Кроме того, вызывает сомнения обоснованность уравнивания в характере и степени общественной опасности публичных призывов к осуществлению геноцида и, например, таких же призывов к незаконному сбыту газового, пневматического или холодного оружия.
Я.Н. Ермолович отмечает, что «исходя из диспозиции ч. 1 ст. 280.4 УК РФ этот состав преступления является общей нормой по отношению к другим подобным составам преступлений, предусмотренным ст. 205.2, 280, 280.1, 280.3, 284.2 и 354 УК РФ…» (2022: 96–97). По нашему мнению, она таковой не является, поскольку предусматривает ответственность за призывы к совершению «своего» круга уголовно наказуемых деяний, что присуще и перечисленным статьям
УК РФ. Считаем, что при введении новых статей Особенной части УК РФ об ответственности за осуществление публичных призывов к тем или иным преступлениям следует исходить из результатов комплексных исследований, подтверждающих целесообразность криминализации таких призывов, касающихся конкретно выделенной группы деяний, объединенных общим для них существенным признаком (признаками), прежде всего нарушаемым ими объектом . Данный подход исключает необходимость введения общей уголовно-правовой нормы об ответственности за призывы к совершению любых преступлений и способствует формированию четко определенных, избирательных запретов. Применительно к исследуемому вопросу полагаем необходимым выделить в отдельную статью гл. 34 УК РФ норму об ответственности за публичные призывы к осуществлению геноцида, что одновременно позволит обеспечить более полную уголовно-правовую охрану мира и безопасности человечества, учесть повышенный уровень общественной опасности таких призывов, а также более точно выполнить обязательство, вытекающее из содержания ст. III Конвенции. В связи с чем предлагаем включить в УК РФ статью 357.1 «Публичные призывы к осуществлению геноцида», изложив ее в следующей редакции: «Публичные призывы к осуществлению геноцида, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок».
Обратим внимание на то, что в последние десять лет после присоединения Крыма к России Следственным комитетом РФ возбужден ряд уголовных дел о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины и в новых регионах, вошедших в состав России в 2022 г. (Бастрыкин, 2023). Представляется, что при наличии указанной юридической оценки соответствующих действий, имеющих ряд общих признаков, включая территорию и период их осуществления, расследование таковых целесообразно осуществлять в рамках одного уголовного дела, что также позволит учесть специфику геноцида, представляющего собой не единичное действие, а комплекс действий, объединенных общей преступной целью причастных к нему должностных и иных лиц.
Отметим, что указанная направленность геноцида позволяет отличить его от сходных насильственных преступлений экстремистской направленности, при совершении которых виновные руководствуются мотивами национальной, расовой, религиозной или иной ненависти либо вражды, не ставя перед собой цель полной или частичной ликвидации той или иной социальной группы, равно как и не имея сил и средств для ее достижения (Кибальник, 2011: 14–15). Тем самым международным и национальным законодателем также подчеркивается исключительная общественная опасность геноцида, выходящая за рамки «обычного» преступного поведения, что, на наш взгляд, должно учитываться при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела именно о геноциде, а не о каком-либо ином преступлении, посягающем на жизнь или здоровье одного или нескольких людей, пусть и принадлежащих к определенной социальной группе, выделяемой по признакам расы, национальности, этнической принадлежности или отношения к религии. В противном случае восприятие указанной исключительной общественной опасности геноцида постепенно нивелируется, и данное преступление фактически будет рассматриваться общественностью в качестве одного из проявлений экстремизма.
Считаем, что к юридической оценке тех или иных действий в качестве геноцида следует подходить особенно взвешенно, в том числе учитывать тот политический и общественный резонанс, который может иметь такое решение органа предварительного расследования и в особенности суда. При этом важно помнить, что современное международно-правовое понимание преступления геноцида сформировалось прежде всего на основе позиций относительно совершенных в годы Второй мировой войны преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, изложенных в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 г.1 и резолюциях 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи ООН2, а затем и в указанной Конвенции. Подчеркнем, что в данном контексте взвешенность и даже осторожность имеют большое значение при установлении юридических фактов применительно не только к текущим событиям, но и к событиям прошлых лет (Решняк, 2011: 18–27), в противном случае возможны самые различные негативные последствия, в том числе актуализация и (или) обострение межнациональных и иных социальных конфликтов.
Таким образом, в настоящее время сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования законодательной регламентации и практики применения уголовно-правового запрета геноцида и взаимосвязанной с ним преступной деятельности, при этом важно учитывать международно-правовое понятие геноцида и его исключительную общественную опасность, обусловленную содержанием и направленностью присущих ему противоправных действий.
Список литературы Геноцид: о некоторых недостатках в регламентации уголовной ответственности
- Аванесян В.В. Криминологические проблемы геноцида // Вестник Орловского государственного университета. Сер.: Новые гуманитарные исследования. 2009. № 3 (7). С. 190–195.
- Архипов А.О. К социальной философии геноцидов // Социология власти. 2023. Т. 35, № 1. С. 93 –117. https://doi.org/10.22394/2074-0492-2023-1-93-117.
- Бастрыкин А.И. Расследование преступлений геноцида в практике СК России // Геноцид в современном мире: стратегии противодействия и способы борьбы: сб. науч. ст. / отв. за выпуск И.А. Слободанюк. М., 2023. С. 19–27.
- Ермолович Я.Н. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14 июля 2022 г. № 260-ФЗ // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2022. № 11 (304). С. 89–103.
- Иногамова-Хегай Л.В., Курносова Т.И. Преступления против человечности или преступления против человечества: идентичны ли понятия? // Уголовное право: стратегия развития в XXI в.: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. М., 2016. С. 577–580.
- Карабанова Е.Н. Аксиологические основы уголовно-правовых запретов // Журнал российского права. 2023. Т. 27, № 4. С. 72–83. https://doi.org/10.12737/jrp.2023.042.
- Кибальник А.Г. Геноцид в решениях современных международных трибуналов // Международное уголовное право и международная юстиция. 2011. № 1. С. 12–16.
- Ковнерев М.А., Филипченко А.М. Геноцид в современном мире: историческое «наследие», условия трансформации и новые формы // Вестник Екатерининского института. 2023. № 1 (61). С. 22–25.
- Решняк М.Г. Действие уголовного закона во времени: проблемные вопросы применения // Вестник Международного юридического института. 2011. № 2 (38). С. 7–29.
- Решняк М.Г. Обеспечение безопасности государства: о некоторых проблемах уголовно-правового регулирования // Теория и практика общественного развития. 2023. № 11 (187). С. 301–305. https://doi.org/10.24158/tipor.2023.11.39.
- Савенков А.Н. Геноцид советского народа: от истории к праву, без срока давности // Государство и право. 2021. № 9. С. 7–30. https://doi.org/10.31857/S102694520016884-3.