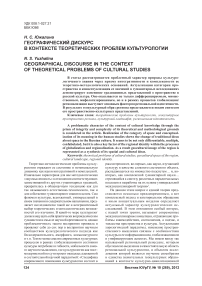Географический дискурс в контексте теоретических проблем культурологии
Автор: Южалина Наталья Сергеевна
Рубрика: Искусствоведение и культурология
Статья в выпуске: 10 (269), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблемный характер природы культурологичекого знания через призму интегративности и комплексности ее теоретико-методологических оснований. Актуализация категории пространства и концептуализация ее значений в гуманитарных исследованиях демонстрирует изменение традиционных представлений о пространстве в русской культуре. Оно оказывается не только дифференцируемым, множественным, мифологизированным, но и в рамках процессов глобализации/ регионализации выступает основным фактором региональной идентичности. В результате геокультурный образ региона представляется неким синтезом его пространственно-культурных представлений.
Теоретические проблемы культурологии, геокультурное пространство региона, культурный ландшафт, региональная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/147150756
IDR: 147150756 | УДК: 008:1-027.21
Текст научной статьи Географический дискурс в контексте теоретических проблем культурологии
Теоретико-методологические проблемы культурологии отражают ее состояние и потенциальную динамику как науки интегративной и комплексной. Изначально характерная для нее методологическая «двусмысленность» в отношении соответствующих заимствований из других гуманитарных традиций, превратилась в общенаучную тенденцию как для так называемого естественно-технического, так и для собственно гуманитарного знания в целом. Сам феномен культуры, всеохватный, универсальный в своем значении и содержательном наполнении, предлагает исследователю такой же и неограниченный выбор теоретических и методологических возможностей его изучения. В какой-то мере культуролог должен ощущать себя практически возрожденческим гуманистом в смысле научной креативности, однако проблематичность такого восприятия проявила и проявляет себя до сих пор в восприятии научным сообществом культурологического подхода как бессодержательного, аморфного, конъюнктурного и т. п. Тем не менее анализ современных культурных процессов в рамках глобализационного состояния культуры потребовал и гибкости, мобильности самого научного мышления, где культурология как пост-модернисткий по сути проект оказалась адекватной и состоятельной научной парадигмой: «Специфика современного понимания культурологии состоит в рассмотрении ее, во-первых, как науки, изучающей культуру в качестве сложного системного объекта, распадающегося на множество подсистем… и, во-вторых, как комплексной гуманитарной науки… стремящейся к синтезу различных парадигмальных подходов и выработке на их основе универсальной междисциплинарной теории»1.
На данном этапе вопрос о единой теории представляется несколько преждевременным, а вот комплексный подход и категориальное обращение к иным концептуальным моделям определяют актуальный характер культурологических исследований. В этом отношении особый интерес, с нашей точки зрения, вызывают современные междисциплинарные концепции, отражающие проблемы взаимодействия, соотношения, а подчас, и тождества пространства и культуры. Актуализация хорологической парадигмы, изменение пространственного мышления связаны с особенностями культуры в ее информационном, глобализационном и унифицирующем аспектах. Мы имеем ввиду так называемый региональный ренессанс, которым обусловлено выделение в самостоятельную область региональной культурологии, и объектом исследования которой является изучение своеобразия и единства значительных геокультурных образований в контексте культурно-цивилизационной целостности страны в диахронном как возможности их историко-культурной реконструкции; так и синхронном, актуальном аспектах. Обращение к пространственному подходу в качестве географического обоснования формирования специфической культуры конкретной территории предваряет практически каждое региональное исследование. Такая тенденция показывает преодоление представлений о русском пространстве как аморфном, хаотичноколоссальном и бесструктурном, и аспатиальность, характерная внепространственная специфическая реакция русской культуры на собственное гегра-фическое пространство, сменяется на совершенно иные географические представления в современной проекции. Этим обстоятельством определяется появление, осмысление и концептуализация новых категорий и специфической проблематики, составляющих пересечение культурологического и географического знания.
Для обозначения сущности взаимосвязи человеческой общности с конкретной территорией (их принципиальной неразделимости) используются различные концепции и понятия. Ментальная тождественность географического места и территориальной общности выражается через категории «культурного ландшафта», «месторазвития», «историко-культурной зоны», однако базовым, основополагающим понятием в подобного рода исследованиях выступает пространственно-культурологическая категория «геокультурное пространство». Теоретически и категориально его содержательное поле связано с научными традициями т. н. «неогеографического детерминизма» и классическими работами К. Риттера, Л. Фробениуса, Ф. Ратцеля. А. Геттнера, К. Зауэра, Л. С. Берга, Ф. Броделя. А. Лефевра и др. Изучение феномена пространства в культурно-антропологическом контексте, через призму человеческого сознания, занимает главное место в работах В. Л. Каганского, Д. Н. Замятина Ю. А. Веденина, А. Дружинина, А. И. Трейвиша, Ф. Туровского, А. Ф. Филиппова и др. Методология структурно-семиотического анализа представляет пространство как текст с точки зрения его знаковости, семантической наполненности и интерпретативного осмысления: Ю. М. Лотман, В. В. Иванов, Ю. С. Степанов, В. Н. Топоров, В. А. Успенский
Динамика территориального обособления региона фиксирует его в качестве отдельного, семантически устойчивого и имеющего неповторимый образ природно-культурного пространства. Освоение любого природного комплекса, обладающего уникальным ландшафтом и геоклиматической средой, в ходе заселения перерастает из процесса территориальной экспансии в акт его культурной символизации. В этом процессе существенно как знакомство с природными потенциалами места (особенностями рельефа, почвенного покрова, растительного и животного мира, климата, геологических ресурсов), так и его осмысление, интеллектуальная трансформация образа территории в психосимволический ландшафт. Освоение территории региона, как правило, перерастает в процесс персонализации места, наделения его исключительным, индивидуальным, только ему присущим смыслом. Ведь в ходе исторической коммуникации «природа-человек» («природа — этнос»), при взаимодействии территориальной общности и среды актуализируются и вырабатываются определенные устойчивые представления о пространственности и ее моделях (мира-как-организма, части — целого, границ, пределов и т. д.), постепенно кристаллизуются стереотипы социального поведения (действия), направленного на освоение конкретного жизненного пространства. С момента первого вхождения в природный ландшафт человеческая общность начинает, с одной стороны, вырабатывать механизмы приспособления к нему, проявлять пластичность по отношению к условиям жизнедеятельности, с другой, по возможности пересоздавать его, основываясь на имеющемся индивидуальном (коллективном) опыте, сумме знаний, социальных и культурных стереотипах, символических интенциях и т. д. Как следствие вырабатывается особый тип ландшафта, который можно было бы назвать природно-культурным (культурным), или антропогенным. Именно антропогенный ландшафт, смысловой образ которого формируется в ходе исторического освоения территории, служит знаком психоментальной идентичности региона. Не случайно в дальнейшем образ ландшафта, сформированного конкретной общностью, служит объектом ее активного внимания и даже любви — чувства топофилии. Пересозданное, актуализированное человеком геокультурное пространство трансформируется в источник психоэмоциональных и, более того, эстетических реакций.
Индивидуальная неповторимость региона как культурного ландшафта закрепляется путем многократного воссоздания комплекса традиций, стереотипов действия, форм жизнедеятельности, способов хозяйствования, сохранения традиционных для региона типов поселения и др., т. е. путем поддержания того геокультурного облика, с которым идентифицирует себя региональный субъект и в котором он узнает самое себя. Важным условием стабильности и адекватности геокультур-ного пространства следует считать его системность: ведь речь идет именно о поддержании системы устойчивых культурных реалий и представлений на определенной территории. Едва ли не главным здесь является наличие информационного (равно традиционного) единства региональной культуры. Так, например, представление о традиционных для региона системах землепользования или формах социального управления оказывается частным проявлением психоментальных (информационных) установок региональной общности. Следовательно, идентичность культурного ландшафта базируется на иерархической совокупности вырабатываемых ментифактов (стереотипов о-смысления среды как ее актуального познания и стереотипов действия по отношению к ней, в первую очередь, традиций).
Исследование природных и социокультурных потенциалов региона также значительно расширяет круг объективных представлений о своеобразии культурного ландшафта региона. Научная информация конкретизирует степень самоосознанности региона как уникального территориального образования. Данный информационный пласт позволяет
Искусствоведение и культурология
на объективном уровне уточнить особенности бытования региональной общности, пути оформления образа территории, характер «сосуществования, переплетения, взаимодействия, столкновения различных вероисповеданий, культурных традиций и норм, ценностных установок, глубинных психологических структур восприятия и функционирования картин мира»2 в историко-культурном процессе. Особое место занимает знаково-семантическая (символическая), духовно-религиозная и эстетическая (художественная) информация, получаемая представителями региональной общности на психоментальном и культурно-историческом уровне. Территориальное самосознание общности неотделимо от представлений о языках культуры, актуальных в данном культурном ландшафте. Речь идет как о собственно локальных языковых (лингвистических) традициях, выражаемых через специфику языковой картины мира (фольклора, диалекта и др.), так и о языке духовных реалий, морально-этических, религиозных, эстетических, идеалообразующих и пр. компонентов духовного опыта. В данном случае культурный ландшафт ассоциируется с определенной системой ментифактов, усваиваемых на уровне мировоззрения. Однако «идентичность как относительная устойчивость индивидуальных, социокультурных, национально-этнических, цивилизационных параметров, выступающих основой самотождественности и общественных образований и личности, сегодня подвергается существенному давлению…»3. С позиции современной культуры как глобально-информационной региональная идентичность на основе историко-культурной региональной модели предстает своего рода фантомом, ментальный шлейф которой обнаруживает интерпритацию ее традиционных элементов ситуативным, контекстным образом. Соответственно актуализируется концепт пространственности как базовый дискурс геокультурного представления и восприятия определенного региона.
Список литературы Географический дискурс в контексте теоретических проблем культурологии
- Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических образов. -М.: Знак, -2006. -С. 7.
- Там же. -С. 62.
- Костина А. В. Национальная культура -этническая культура -массовая культура: «баланс интересов в современном обществе». -М.: Либроком, 2009. -С. 67.