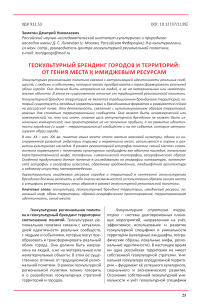Геокультурный брендинг городов и территорий: от гения места к имиджевым ресурсам
Автор: Замятин Дмитрий Николаевич
Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst
Рубрика: Локальное в глобальном: формула туризма
Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.
Бесплатный доступ
Геокультурная региональная политика связана с актуализацией идентичности реальных сооб- ществ, с людьми и событиями, которые могут преобразовать и трансформировать реальный облик города. Она должна быть направлена на людей, а не на материальные или нематери- альные объекты. В этом ее существенное отличие от традиционной региональной политики. Геокультурный брендинг территорий не является традиционным брендингом территорий, ко- торый существует в западных маркетинговых и брендинговых форматах и развивается сейчас на российской почве. Это деятельность, связанная с культивированием образов территорий, важных для сплочения территориальных сообществ. Она может быть некоммерческой или коммерческой, но, так или иначе, главная цель геокультурного брендинга не может быть из- начально коммерческой, она ориентирована не на получение прибыли, а на развитие идентич- ности городских (и шире - территориальных) сообществ и на те события, которые актуали- зируют образ города. В кон. XX - нач. XXI вв. понятие гения места стало частью массовой культуры, одним из ин- струментов развития индустрии туризма и маркетинга мест; используется в охране и раз- витии культурного наследия. В рамках гуманитарной географии понятие «гений места» семан- тически коррелирует с понятиями культурного ландшафта как объекта наследия, локального (пространственного) мифа, топофилии, символической топографии, географического образа. Особенно продуктивно данное понятие в исследованиях по географии литературы, эстетиче- ской географии и географии искусства, образному градоведению, ландшафтной архитектуре и садовому искусству, метакраеведению. Характеристики имиджевых ресурсов городов и территорий в контексте геокультурного брендинга должны включать в себя анализ возможностей использования образов гениев места и специфики репрезентации этих образов в рамках геокультурной региональной политики.
Геокультура, геокультурный брендинг территории, имиджевые ресурсы, локальный миф, образ территории, образно-географическое проектирование, территориальная идентичность, гений места
Короткий адрес: https://sciup.org/140206387
IDR: 140206387 | УДК: 911.53 | DOI: 10.12737/11392
Текст научной статьи Геокультурный брендинг городов и территорий: от гения места к имиджевым ресурсам
Геокультурная региональная политика и геокультурный брендинг территории: соотношение понятий. Геокультурная региональная политика связана с актуализацией идентичности реальных сообществ, с людьми и событиями, которые могут преобразовать и трансформировать реальный облик города. Она должна быть направлена на людей, а не на материальные или нематериальные объекты. В этом ее существенное отличие от традиционной региональной политики. В рамках геокультурной региональной политики можно говорить и о разработках геокультурных стратегий территорий и городов.
Геокультурная стратегия территории – система долговременных плановых мероприятий, направленная на учёт, эффективное использование и развитие геокультурной специфики и уникальности территории (культурные ландшафты, географические образы, локальные мифы, региональные идентичности). В настоящее время ни одна российская территория не имеет собственной геокультурной стратегии. Уникальная геокультура определённой территории – фундамент её успешного культурного, социального и экономического развития. Осознание собственной геокультурной уникальности и учёт геокультурной специфики территории способствует повышению эффективности государственной, корпоративной и общественной деятельности, рождению территориальных инноваций.
Геокультурный брендинг территорий (ГБТ) не является традиционным брендингом территорий, существующим в западных маркетинговых и брендинговых форматах и развивающимся сейчас на российской почве. Это деятельность, которая связана с культивированием образов территорий, важных для сплочения территориальных сообществ. Она может быть некоммерческой или коммерческой, но, так или иначе, главная цель ГБТ не может быть изначально коммерческой, она ориентирована не на получение прибыли, а на развитие идентичности городских (шире – территориальных) сообществ, и те события, которые актуализируют образ города. ГБТ проявляется, прежде всего, в современном искусстве, туризме, в интерактивной культуре и в креативной индустрии. Но выбор в направлении развития геокультур-ного брендинга всегда остается за городом и его основными сообществами.
ГБТ – это проектно-сетевая деятельность, направленная на прикладное использование геокультуры территории (специфическая региональная идентичность, историко-культурное наследие, архетипические географические образы, локальные мифы и культурные ландшафты) в целях формирования и продвижения социально значимого и эффективного (аттрактивного) территориального образа. Большинство российских территорий нуждается в разработке позитивного имиджа. Детальная количественная и качественная оценка имиджевых ресурсов территории необходима для разработки эффективного имиджа и ГБТ. Правильно проведённый ГБТ способствует культурным, социальным и экономическим инновациям, наиболее естественным и органичным для данной территории. Геокультурный бренд территории является её стратегическим активом.
Образно-географическое проектирование. Работа над геокультурным брендом территории может и должна вестись в рамках образно-географического проектирования. Образно-географическое проектиро- вание (ОГП) – сфера прикладной (научной и практической) деятельности, направленная на разработку, конструирование и внедрение географических образов территорий различного ранга и уровня (сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, административный район, субъект РФ, федеральный округ, районы вернакулярный, историко-географический, этнокультурный, страна / государство в целом и т. д.). ОГП является частью общественного (социополитического, социокультурного, социально-экономического) и государственного проектирования и программирования. В качестве образногеографических проектировщиков могут выступать как научные исследователи, так и профессиональные социокультурные проектировщики и (иногда) культурные менеджеры. ОГП является областью некоммерческой деятельности. В качестве заказчиков ОГП могут рассматриваться как государственные органы управления (федеральные, региональные, муниципальные), так и общественные организации и ассоциации, а также коммерческие организации (компании, фирмы, предприятия и т. д.). Цель ОГП – создание положительного эмоционального и информационного эффекта для отдельных людей и сообществ различного уровня и ранга, действующих или предполагающих действовать на той или иной территории. Продукт конкретного ОГП – письменные указания и рекомендации, включающие графические схемы (образно-географические, ментальные и образно-средовые карты, картоиды, мифогеографические схемы); фотографии, компьютерные презентации. Использование продукта конкретного ОГП предполагает, как правило, проведение каких-либо рекламных и PR-акций и кампаний, деятельность, связанную с конкретным социокультурным проектированием (например, строительство и открытие памятника или музея выдающегося человека; проектирование национального парка и т. п. ).
Образно-географический проект (ОГ-проект) – включает в себя конкретных заказчиков, исполнителей, предполагаемые параметры продукта, фактические параметры произведённого продукта, материальные, финансовые, организационные, временные и кадровые ресурсы. Качество ОГ-проекта зависит от оптимальности отношения между предполагаемыми параметрами продукта и наличными (имеющимися в распоряжении исполнителей) ресурсами. Масштаб ОГ-проекта (величина ресурсов, масштабность задач, параметры продукта) может зависеть как от физико-географического размера территории, её политической, экономической и социокультурной значимости, так и от целей, сформулированных заказчиками. Выполнение ОГ-проекта предполагает предварительное изучение исполнителями территории, соответствующую организационную подготовку и поддержку со стороны заказчиков. Последовательные этапы осуществления ОГ-проекта: обсуждение возможного проекта между потенциальными заказчиками и исполнителями, определение в случае консенсуса базовых параметров продукта, заключение договора, временнόе и ресурсное планирование проекта, предоставление и подготовка ресурсов проекта заказчиками и исполнителями, творческое обсуждение идеи конкретного ОГ-проекта (исполнители, возможно подключение заказчиков), исследование территории в целях проекта и сбор необходимых материалов, анализ собранных полевых материалов, коррекция первоначальной идеи проекта, представление проекта в виде письменных указаний и рекомендаций, таблиц, графических схем, компьютерных презентаций, сдача проекта исполнителями заказчикам, обсуждение итогов проекта (исполнители и заказчики).
Территориальные идентичности и локальные мифологии в контексте гео-культурного брендинга территории. Концепт территории включает в себя не только конкретный объем информации и знаний, но и некоторые представления о ней, не связанные прямо с какой-либо точной информацией или знанием. Иначе говоря, помимо собственно «физической», существует и «метафизическая» территория. Именно в этом слое «откладываются» локальные мифы, «складируются» географические образы-архетипы, формируется представление о культурных ландшафтах.
Проблематика и аспекты территориальных идентичностей и локальных мифологий в контексте ГКБ рассмотрены нами ранее [4].
Определенно территориальная идентичность как бы надстраивается над географическими образами и локальными мифами, в то же время оказывается рефлексивной основой для выявления и фиксации конкретных культурных ландшафтов, типичных для данной территории.
Диагностическая модель локальных мифов: описание и структурная характеристика . Локальные мифы становятся операциональным ментальным образованием, достаточно последовательно выражаемым какими-либо прагматическими, прикладными актами сознания [6]. Имеет смысл говорить, прежде всего, о диагностической модели локальных мифов, ориентированной на идентификацию и предварительную оценку роли локальных мифологий в контексте солидарности и сплоченности региональных сообществ / локальных социумов, или же, наоборот, в контексте их раскола и раздробления, социокультурной атомизации. Вместе с тем, подобная модель может заключать в себе и значительный потенциал социокультурного и образно-географического проектирования, в котором разработка и оформление перспективных локальных мифов относится к одной из наиболее важных составляющих. В табл. 1 в самом общем виде представлена приблизительная диагностическая социокультурная модель локальных мифов.
Представленные блоки диагностической модели локальных мифов можно интерпретировать как единый метаблок модели, «ответственный» за образно-географический контекст развития и функционирования локальных мифов той или иной территории.
Гений места: геокультурные основания. Гений места – художник или творец, чья жизнь (биография), работа и/или произведения связаны с определённым местом (домом, усадьбой, поселением, деревней, городом, ландшафтом, местностью) и могут служить существенной частью образа места или географического образа. Проблематика, происхождение по-
Таблица 1 – Ориентировочная структура и характеристика диагностической социокультурной модели локальных мифов
|
Блок |
Содержание блока |
Характеристика |
|
1 |
Мифологические ресурсы территории / территориального сообщества |
|
|
2 |
Описание структур, собранных и предварительно упорядоченных по происхождению, темам, сюжетам и степени распространенности локальных мифов |
|
|
3 |
Идентификация сакрального и / или профанного характера обнаруженных и структурированных локальных мифов |
|
|
4 |
Рассмотрение, описание и исследование соотношения определенных локальных мифов с конкретными местами, локусами, их топографической «привязки» |
Предварительная классификации попавших в поле исследования локальных мифов:
|
нятия, его форматы иэтапы переосмысления рассмотрены нами ранее [8].
Новое развитие это понятие получило в эпоху модерна, когда историки культуры и искусства стали осознавать ускорение исторического и социокультурного развития обществ и констатировать появление значимой общественной проблемы культурного наследия, в т. ч. утраты культурного наследия в рамках специфического ментального пространства пассеизма – т. е. тоски и переживанию по уходящему прекрасному прошлому; в России нач. XX в. это проявилось в культе русской усадьбы (например, публ. [1, 7, 13 и др.]). В кон. XX – нач. XXI в. понятие гения места стало частью массовой культуры, одним из инструментов развития индустрии туризма и маркетинга мест; используется в охране и развитии культурного наследия (например, [2, 10 и др.]). В рамках гуманитарной географии понятие «гений места» семантически коррелирует с понятиями культурного ландшафта, культурного ландшафта как объекта наследия, локального (пространственного) мифа, топофилии, символической топографии, географического образа. Понятие «гений места» особенно продуктивно в исследованиях по географии литературы, эстетической географии и географии искусства [3, 9, 11], образному градоведению [5 и др.], ландшафтной архитектуре и садовому искусству, метакраеведению [12].
Образно-географическое моделирование взаимоотношений гения и места. Моделирование географических образов предполагает постоянные трансформации, изменения конфигураций, форм подобных образов, их содержания, что также находит своё отражении в образно-географической морфологии. Скорее всего, сами географические образы представляют собой в гене- тическом плане также пространственные конструкты, что подразумевает проведение повторяющихся ментальных операций как бы удвоения видимого, чувствуемого, переживаемого, мыслимого земного пространства. В этой связи образно-географическое моделирование взаимоотношений гения и места означает, прежде всего, удвоение и одновременно трансформацию исходных специфических географических образов-архетипов, в которых так или иначе можно интерпретировать творчество или биографию гения, проецируя их на конкретную топографию. В самом общем приближении можно сформулировать три стратегии включения темы гения и места в методологию и методику образно-географического моделирования: стратегия «пересмотра места», стратегия расширения образно-географических контекстов места и стратегия «уничтожения места». Все эти стратегии подразумевают непосредственное «участие» определённого гения в подобных топографических трансформациях.
Стратегия «пересмотра места» предполагает образно-географическое смещение, перемещение, передвижение места из одного контекста в другой. Такое перемещение может быть связано как с переосмыслением роли конкретного гения в истории места и его образе (включая историографические открытия самой роли гения в истории определённого места), так и с новыми попытками соотнесения содержательных моментов произведений гения и его биографии с основными, базовыми элементами географического образа места. Иначе говоря, место постепенно становится «другим» в результате появления как новых фактов, касающихся обстоятельств жизни и творчества гения, так и в результате более совершенных, более глубоких интерпретаций взаимовлияния гения и места друг на друга.
Стратегия расширения образно-географических контекстов места направлена на порождение новых, широких образно-географических контекстов или на более широкое осмысление старых контекстов. Как только, благодаря таким ментальным операциям, появляются новые возможности репрезентаций, трактовок и интерпретаций географического образа места, возникают и как бы пустые области, которые могут заполняться знаками и символами вновь обнаруженных биографий, обстоятельств деятельности творческой личности, ранее не рассматривавшейся как «гений» этого места. Один из примеров, иллюстрирующих данную стратегию – образ Астрахани, в котором долгое время доминировали знаки и символы купеческого, речного и морского города; но в кон. XX в. его образ стал эволюционировать в сторону расширения привычных образногеографических контекстов – имена, биографии и творчество В. Хлебникова и Б.а Кустодиева стали играть более значимую роль в образе этого города.
Стратегия «уничтожения места» предполагает столь мощное творческое воздействие гения на образ места, что само место как бы исчезает под его напором – образ места «совмещается» с самим образом гения. Такая ситуация возможна как в случаях совмещения деятельности поистине общепризнанного на национальном или мировом уровне гения и относительно небольшого места, не обладающего значительной историко-культурной аурой помимо деятельности и творчества данной личности. В рамках подобной стратегии, очевидно, могут рассматриваться такие города, как, например, Веймар в Германии, Зальцбург в Австрии, Хвалынск в российском Поволжье, а также культурные гнезда, бывшие усадьбы – например, Бобло-во, Шахматово в Северном Подмосковье, усадьба Т. Джефферсона в США. Иногда такому творческому «уничтожению» со стороны плеяды поэтов, писателей или художников могут подвергаться целые местности, подобно Озерному краю в Англии или Барбизону во Франции, возможно и Тарусе и ее окрестностям в России. В отдельных случаях крупная творческая личность, гений в мировом культурном контексте может замещать собой даже национальные столицы – такая интерпретация, возможна, например, в отношении Дж. Джойса и Дублина, Борхеса и Буэнос-Айреса (несмотря на присутствие здесь, кроме Борхеса, и других примеров мощной творческой деятельности).
Особой исследовательской проблемой остается интерпретация взаимоотношений гения и места для крупнейших культурных центров мирового значения – таких, например, как Париж, Лондон, Вена, Рим, Нью-Йорк, Москва и C. – Петербург. В самом общем виде здесь возможно совместное, параллельное использование всех трех выделенных стратегий, в тех или иных конкретных пропорциях; формирование специфической комплексной стратегии для определенного культурного центра. Понятно, что пространство этих центров «перенасыщено» уникальными примерами и опытами творческой деятельности, реальная топография таких центров часто взаимодействует и пересекается с воображаемой топографией известных художественных произведений. Кроме этого, возникают своего рода автономные и не пересекающиеся параллельные пространства и миры, формируются целые геомифологические пространства, связанные с творчеством отдельных писателей, художников или кинорежиссеров – весьма характерен здесь пример романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и топографии Москвы, приблизительно то же произошло ранее и с рядом произведений Ф. Достоевского и, со- ответственно, топографией С.-Петербурга. Подобная исследовательская ситуация позволяет говорить нам и о другой стратегической ментальной/когнитивной возможности: трактовать место как потенциально бесконечное пространство или пространства гениев, изменяющих, в свою очередь, ментально-географические координаты изначального «реального» конкретного места. Благодаря деятельности, творчеству гения место постоянно как бы расширяется, видоизменяется, трансформируется, преображается, «кочует», размножается в рамках более масштабных ментальногеографических пространств; в то же время, как следствие такого преображения места, происходит трансформация и этих, мыслимых более широкими, пространств. Как бы то ни было, гений «укрупняет» место, становящееся как бы другим, и тем самым создающее ментальные напряжения во вмещающих его образных и символических пространствах; происходят своего рода «ядерные» образно-географические реакции, результатом которых становится формирование новых образно-географических картографий, налагающихся на традиционные географические и картографические представления.
Список литературы Геокультурный брендинг городов и территорий: от гения места к имиджевым ресурсам
- Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Быль и миф Петербурга. Ре-принт. М.: Книга, 1991. 227 с.
- Вайль П. Гений места. М.: КоЛибри, 2007. 488 с.
- Веденин Ю. А. Литературные ландшафты как объект наследия//География искусства. Вып. IV. М.: Институт наследия, 2005. С. 10-26.
- Замятин Д. Н. Идентичность и территория: гуманитарно-географические подходы и дискурсы/В сб. «Идентичность как предмет политического анализа». М.: ИМЭМО РАН, 2011. С. 186-203.
- Замятин Д. Н. Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города//Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 2. 2005. C. 276-323.
- Замятин Д. Н. Локальные мифы: Модерн и географическое воображение/В сб. «Литература Урала: история и современность. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 8-44.
- Замятин Д. Н. Русская усадьба: ландшафт и образ//Вестник Евразии. 2006. № 1. С.70-91.
- Замятин Д. Н., Замятина Н. Ю. Гений места и город: варианты взаимодействия//Вестник Евразии. 2007. № 1. С. 62-87.
- Замятина Н. Ю. Образ города и искусство//География искусства. Вып. IV. 2005. С. 26-43.
- Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 384 с.
- Марбург Бориса Пастернака/Сост. Е. Л. Кудрявцева. М.: Русский путь, 2001. 258 с.
- Рахматуллин Р. Небо над Москвой. Второй Иерусалим Михаила Булгакова//Ex libris НГ. Книжное обозрение к «Независимой газете». 24.05.2001. С. 3.
- Щукин В. Миф дворянского гнезда: Геокультурологическое исследование по русской классической литературе. -Краков: Изд-во Ягеллонского ун-та, 1997. 315 с.