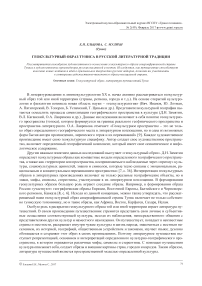Геокультурный образ Туниса в русской литературной традиции
Автор: Ельцова Елена Николаевна, Муляхи Самиха
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (49), 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается своеобразие художественного осмысления геокультурного образа североафриканской страны Туниса в художественных произведениях русских писателей и поэтов. Исследуется, как путешествие способствует внесению новых мотивов и идей в оригинальное творчество русских авторов, позволяя им участвовать в сотворении художественно-текстового образа посещаемой страны.
Геокультурный образ, литература путешествий, тунис
Короткий адрес: https://sciup.org/14822570
IDR: 14822570
Текст научной статьи Геокультурный образ Туниса в русской литературной традиции
В литературоведении и лингвокультурологии XX в. начал активно рассматриваться геокультур-ный образ той или иной территории (страны, региона, города и т.д.). На основе открытий культурологии и филологии возникла новая область науки – «геокультурология» (Вяч. Иванов, Ю. Лотман, А. Пятигорский, В. Топоров, Б. Успенский, Т. Цивьян и др.). Представители культурной географии пытаются осмыслить процессы символизации географического пространства в культуре (Д.Н. Замятин, В.Л. Каганский, О.А. Лавренова и др.). Данные исследования включают в себя понятие геокультурно-го пространства (топоса), которое формируется на границе реального геофизического пространства и пространства литературного. О.А. Лавренова отмечает: «Геокультурное пространство – это не только образ определенного географического места в литературном воплощении, но и одна из возможных форм бытия автора произведения, лирического героя и их переживаний» [9]. Каждое художественное произведение имеет свою геокультурную специфику. Автор создает свое художественное пространство, включает определенный географический компонент, который имеет свое семантическое и мифологическое содержание.
Другим важным понятием данных исследований выступает «геокультурный образ». Д.Н. Замятин определяет геокультурные образы как компактные модели определенного географического пространства, а также как «территории или пространства, воспринимаемые и наблюдаемые через «призму» культуры, социокультурных ценностей, знаков и символов, которые тесно связаны с эмоциональным, рациональным и концептуальным переживанием пространства» [7, с. 36]. Интерпретация геокультурных образов в литературных произведениях включает не только реальные географические объекты, но и знаки, мифы, символы, стереотипы, участвующие в их литературном воплощении. В формировании геокультурных образов большую роль играют соседние образы. Например, в формировании образа России «участвуют» географические образы Евразии, Восточной Европы, Балтийского и Черноморского регионов, Кавказа [8, с. 6]. Исходя из данной концепции, можно также утверждать, что рассматриваемый нами геокультурный образ североафриканской страны Тунис включает не только собственно тунисскую топонимику, но и такие образы, как Африка, Восток, Карфаген, Сахара, Ислам.
Особую роль в раскрытии геокультурного образа той или иной территории играет литература путешествий. В своем произведении путешественник стремится представить свои личные и субъективные осмысления соответствующей культуры, исходя из наблюдения, непосредственного общения с представителями других культур и наместного нахождения. Он путешествует, попадает в неизвестные страны и местности, раскрывает изнутри чужие культуры и жизнь народа, знакомиться с местным населением, их историей, географией, общественным устройством и законами, изучает языки; духовно обогащается и сохраняет этот образ в своих произведениях. Поэтому литературное путешествие выступает репрезентацией, освоением и интерпретаций определенного культурно-географического пространства, в котором отражаются различные мифы, символы и стереотипы. С помощью путешествия культура описывает себя, создает образы и внешние картины стран, городов и народов. Таким образом, литература путешествий является пространственной моделью определенной культуры.
В мировой литературе имеется богатый литературный пласт путешествий как впрозаической, так и поэтической форме. Этот материал может стать источником раскрытия геокультурного образа разных стран и регионов, в том числе арабского Востока в целом и Туниса в частности.
Арабо-мусульманский мир служит одним из основных источников вдохновения русских писателей и поэтов, в чьих произведениях он приобрел особое культурно-философское осмысление. Непосредственному знакомству с народами арабских стран и их культурами помогали путешествия в эти страны. Так возникал особый интерес и творческое желание раскрыть русскоязычному читателю новый мир культуры (философию, религию, историю) арабских народов и их образ жизни.
Географически арабский мир включает Ближний и Средний Восток, охватывая две части Азии и Северную Африку. В исследованиях по данной тематике уделяется большее внимание описанию стран Среднего Востока и, к сожалению, недостаточное стран Магриба (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания). Данная тенденция связана с разными причинами. Средний Восток предстает колыбелью культуры арабов и включают святые места (Палестина, Сирия, Иордания), тогда как страны Магриба лишены такой философско-религиозной основы. Хотя страны северной Африки, находясь на стыке Средиземноморья и африканскогоконтинента, синтезировали разноликие культуры и традиции, и тем вызывают восхищение у путешествующих.
В русской литературной традиции арабский Восток и исламская культура занимают особое художественное место. Романтика арабского Востока, обаяние «мавританской культурой» проникли в Россию, главным образом «через популярную западную литературу, а также благодаря весьма редким, в том числе и переводным, материалам на страницах российских журналов» [10, c. 97].Очерки и произведения французских и английских путешественников печатались в «Отечественных записках», «Современнике», «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Библиотеке для чтения» и т.д. Так, африканские очерки французского писателя Александра Дюма (1802–1870 гг.) были опубликованы в русских журналах в 40–50-е гг. XIX в. В переведенных отрывках из книги «Быстрый, или Танжер, Алжир и Тунис» Дюма повествует о своем долгом путешествии по странам Северной Африки осенью 1846 г. [5]. В этих журналах были опубликованы также самостоятельные сочинения русских ученых и исследователей путешественников, посвященных странам Магриба.Несомненно, эта культурная среда, где витал дух ориентализма, создавала предпосылки для обращения к поэтике Востока художников русской словесности того периода (А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, В. Жуковский, П. Вяземский, А. Пушкин, М. Лермонтов).
Врусской литературеначала ХХ в., получившего название Серебряный век, писатели и поэты разных направлений и школ вслед за романтиками XIX в. обращались к тематике Востока. Арабские восточные мотивы явно появляются в произведениях К. Бальмонта, А. Белого, В. Брюсова, И. Бунина, Н. Гумилева, В. Соловьева и др. Каждый из них по-своему отразил и интерпретировал этот образ, переосмысливая и открывая для себя и читателей по-новому восточную культуру.
В этот исторический периодТунис становится популярным местом и привлекательным направлением как для исследователей и ученых, так и для художественной элиты. Так, в 1910 г. в Северную Африку совершил поездку известный российский художник К.С. Петров-Водкин и написал путевые очерки «Поездка в Африку» [11]. Первая часть очерка «На рассвете» включают в себя 14 небольших зарисовок о пребывании художника в одном из оазисов Сахары. Он описывает знойность африканской пустыни, ее немилость людям, когда от жары погибают пальмы, проказа убивает людей. В этом чужом для него мире он – «варвар», которого все сторонились (« Чужой, дикий бродил я окрест.. .» [11]). Но в этом же чуждом для себя мире он встречает проводника Хамана, повествующего о сахарских мифах и традициях и открывшего художнику красоту арабского Востока.
Во время путешествия 1910–1911 гг. по Египту и Алжиру в Тунисе побывали писатель Иван Бунин и его жена Вера Муромцева-Бунина. Бунин так говорил о своем отношении к этим поездкам: «Я много жил в деревне, много путешествовал в России и за границей: в Италии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжире, в Тунисе, в тропиках. Я, как сказал Саади, «стремился обоз- реть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические» [3, с. 141]. Впечатления от поездок на Восток легли в основу арабских циклов стихов, «путевых поэм» «Тень птицы» (1907–1911) и путевых очерков «Воды многие» (1925–1926).
Основатель литературного направления «акмеизм» Н. Гумилев совершил четыре путешествия в Африку: в 1908 г. – в Египет, на рубеже 1909–1910 гг. – в Сомали и Восточную Абиссинию, в сентябре-марте 1910–11 гг. – в Абиссинию. Последнюю поездку он совершил в 1913 г. по заданию Академии художеств, с которой привез большую коллекцию вещей, а также многочисленные записи песен и легенд. На основе африканских путешествий Н. Гумилев создает свои прозаические произведения: путевые заметки «Африканский дневник» (1913) и путевой дневник «Африканскую охоту» (1916). Африканская тема отразилась в его богатом поэтическом наследии: стихотворные сборники «Чужое небо» (1911), «Колчан» (1911), «Шатер» (1919–1921). Африка для писателя и поэта была связана «с идеей подлинного «земного рая» [6, с. 165], представленного в виде первичного, благодатного мир, мира естественного порядка вещей.
Среди большого «африканского наследия» Н. Гумилева можно выделить в том числе произведения, посвященные Тунису и его истории. Так, в стихотворении «Тразименское озеро» он воспевает подвиг великого полководца античности Ганнибала (247–183 гг. до н.э.). Героем гумилевской новеллы «Лесной дьявол» выступает отважный и предприимчивый карфагенский мореплаватель, совершивший экспедицию вдоль западного берега Африки, Ганнон Карфагенянин (живший около VII–VI вв. до н.э.). В стихотворении «Алжир и Тунис» [4] поэт повествует о теснейшем родстве «старой Европы» и средиземноморской Африки. Начав с описания культурно-географических реалий финикийско-римского периода, он переходит к рассказу о французской колонизации этого региона: И к Италии дальней / Дивно выгнутый мыс / Простирает печальный / Брат Алжира, Тунис. / Здесь по-прежнему стойки / Под напором ветров / Башни римской постройки, /Колоннады дворцов. / У крутых побережий / На зеленом лугу /Липы, ясени те же, /Что на том берегу. В финале стихотворения поэт противопоставляет Север и Юг – христианские земли, освоенные французами, нашедшими здесь «край наследственный свой», с одной стороны, – и дикие народы пустыни, с другой: «Но на север и ныне / Юг оскалил клыки. / Все ползут из пустыни / Рыжей стаей пески. // Вместо хижин – могилы. / Вместо озера – рвы… / И отходят кабилы, / Огрызаясь, как львы. Н. Гумилев, воспевая волю европейца, противопоставляет ее дикой воле природы. «Белый» сражается с песками пустыни и племенами, олицетворяющими пустыню. Так, в финальных строфах стихотворения читаем: Только белый бороться / Рад со всяким врагом, / Вырывает колодцы, / Садит пальмы кругом. // Он выходит навстречу / Этой тучи сухой, / Словно рыцарь на сечу / С исполинской змеей.
Путешествие по странам Средиземноморья и Северной Африкистановится ключевым моментом в жизни и творческих исканиях другого писателя начала XXв. – символиста А. Белого. В 1910 г. А. Белый с женой Асей Тургеневой отправляются в Италию, Тунис, в Египет, потом в Палестину и возвращаются в Одессу. Ю.В. Шатин отмечает, что путешествие А. Белого было своеобразным бегством из Москвы от семейных неурядиц, проблем с издательством [18, с. 379], но это африканское путешествие повлияло на его философские и творческие искания. Свои записи о путешествии Белый подготовил к печати еще в 1912 г., но они так и не были опубликованы ни в издательстве «Мусагет», ни в издательстве «Сирин». Впервые путевые записи были изданы в 1922 г. под названием «Офейра» [2]. Чуть позже в Берлине вышло второе, дополненное издание под заглавием «Путевые заметки». «Африканский дневник» пишется как продолжение и вторая часть [1]. Африканские впечатления переданы А. Белым особым символическим языком: красками, звуками, геометрическими фигурами и линиями. Этот изобразительный дар отмечает Т.Ю. Хмельницкая: «Белый был наделен даром остро видеть мир в линиях и красках. И этот изобразительный дар делает столь богатой и зрительно представимой его словесную палитру» [13, c. 44]. В своих произведениях автор-путешественник отражает тунисскую действительность в качестве художественного стиля, который включает разные элементы исторической информации, политических сведений, национальных и этнографических описаний.
А. Белый в предисловии «Африканского дневника» пишет: эта книга не может быть названа «Путевыми заметками». Это – скорее «Африканский дневник [1, с. 330]. Автор подчеркивает жанровое определение своего произведения и выделяет самостоятельность произведения, указывая, что будучи в 1911 году с женою в Тунисии и Египте, все время мы посвящали уразуменью картин, встававших перед нами [Там же, с. 330].Так же, как и в своем первом произведении «Офейра», А. Белый пытается не только осознать, понять, прочувствовать увиденные образы, но и пересказывает истории, фиксирует факты и даты. Не случайно он отмечает этот переворот в своем путешествии и в себе : \ я приехал в Тунис отдохнуть, переждать холода, и с весенними первыми днями вернуться обратно в Европу; нас ждали: Мессина, Катанья, Помпея, Неаполь, Равенна, Ассизи, Флоренция, Рим, галереи, музеи; а мы – засмотрелись куда-тов обратную сторону ; юг и восток призывали; и голос Сахары раздался [Там же, с. 348]. В «Африканском дневнике» зазвучала лишь слегка затронутая в «Офейре» тема Африки. Тунис стал в биографии русского поэта, прозаика тем переломным местом, который родил в нем «новую жилку», «предпринимателя, авантюриста»: был во мне миг, когда я , перестал быть туристом, мог стать путешественником ; а Тунисию чувствовал базой, откуда мог бы я нырнуть в необъятную Африку , как водолаз прикрепленный канатом к судну [Там же, с. 348]. Затянувшееся пребывание в Тунисе (А. Белый прожил в Радесе, пригороде столицы, два месяца) стало для него откровением: он изучал историю Туниса, быт и нравы народов, историю мусульманства, рассматривал карты, читал на французском языке книги известных арабских и европейских ученых и путешественников. В его исследовательскойбиблиотеке были книги известного тунисского философа, социолога и историка Ибн Хальдуна, арабских путешественников Ель Едриси и Мохамеда Юсефа, очерки русского путешественника А. Елисеева, исследования французских востоковедов Ф. Ленормана и Виктора Пикеи других авторов. А. Белый пишет: Пребывание в тихой арабской деревне, в Радесе мне было огромнейшим откровением, расширяющим горизонты; отсюда я мысленно путешествовал в недра Африки, в глубь столетий, слагавших ее современную жизнь; эту жизнь мы уже чувствуем, тысячи нитей связывают нас с Африкой [1, с. 330].
В целом «Путевые заметки» построены на противопоставлении двух моделей пространства, которые по мере путешествия меняются. Так, в самой «Тунисии» противопоставлены Кайруан и Тунис с его пригородами Карфагеном, Сиди бу Саидом, Радесом, как два разных образа культур на территориальном пространстве страны, Африка и Европа как два континента и несовместимые культуры в мировом масштабе. После путешествия в Египет Тунис сравнивается с Каиром. Это противопоставление реализовано в зрительных образах – геометрических и цветовых, содержательных оппозициях, образах – героях. Так, описание Кайруана сопровождается рассказами об истории становления ислама, об истории города, его мечетях и мифах, тем пейзажем, который окружает сам город.
Сопоставительный анализ дополняется зрительным контрастом (старый выженный Кайруан – одновременно белый и разноцветный Тунис): Облупленный, жженый стоит Кайруан, не как белый надменный Тунис, Здесь черно-белые пестрят повсюду; а краски Туниса – зеленые, желтые, синие; <…>вот – черные, белые полосы под куполами мечетей в Тунисе арабка закутана в снежении шелка; а здесь, в Кайруане, чернеют шелка на ней [Там же, с. 341]. Описывая кайруанскую архитектуру, А. Белый широко использует геометрические термины и эпитеты: пирамедический, трехъярусный, плоский, зубный, беззубный, квадратный, полукруг, дуга, полосы и т.д. Два пространства наделяются совершенно противоположными характеристиками. Кайруан с четкой геометрией рисунка и Тунис, украшенный растительной орнаментовкой, имеют две разные цветовые гаммы: в Кайруане – черно-белые росписи стен, здесь – более шашек; здесь и толпа – чернобелая вовсе; как флер, чернобелые пятна людей вместе с дугами, клетками, шашками стен полосатят глаза похоронно; вот черные, белые шашки на мощной дуге обращенных ворот; вот – черные, белые полосы под куполами мечетей [1: 340]. Это черно-белое архитектурное наполнение повторяется в цвете одежды: «чернеют шелка» на кайруанской женщине, в белый бурнус закутан суданец. Совершенно иные краски Туниса: «зеленые, желтые, синие», туниска закутана в снежении шелка [Там же, с. 340].
Автор отметил и другой важный момент, отличающий Кайруан от Туниса, – отношение к представителям других верований в мечетях. Так, в Тунисе иностранцам не допускается входить в мечеть в отличие от Кайруана: дверь открывается для гяуров, здесь в Кайруане», а «в Тунисеруми – неверный в мечеть не пропустят». Причина объясняется тем, что «сквернили французы постоем во время своей оккупации их; с той поры дверь мечетей, уже оскверненных [Там же, с. 343].
Описывая дорогу в Кайруан, А. Белогобольше всего привлекали природные ландшафты и архитектура. Поэт активно использует цветовые эпитеты и геометрические фигуры. Кайруан характеризуется пустынным ландшафтом и климатом (песок, дюна, сахара, верблюд, жаренные кактусы, жаркий ветер, сухие колючки, желтые мулы, желтые пески, треск, ветер, горы из кварцевой пустыни, желтые равнины, буря, ужасная сушь). Сам Кайруан и его природа описаны с помощью таких цветовых эпитетов, как желтый, сухой, бурый : Из песков – намечается: мертвенно желтым песком Кайруан [ Там же , с.337] ; Посмотрел я в окошко: как зло, как желто !... Ветер стих; все пески опустились; и яркое, яркое небо – синеет; и солнце бросает лучи; но какая ужасная сушь [ Там же , с. 339]; верблюды пасутся средь жаренных кактусов , где-то за городом; щиплют желтеющие корни когда-то здесь бывшей травы; и сухие колючки жуют [ Там же , с. 341] и т.д. В сознании автора Кайруан стал символом Сахары и ее жестокости ( город верблюдов, сахарийское пекло, мертвенно желтый песок ). Не случайно в эту главу помещены сведения о самой Сахаре, ее дюнах и эргах, свидетельства о путешествии в Сахару русского путешественника А. Елисеева. А. Белый не просто рисует город, а создает образ-метафору. Город Кайруан – это ворота Африки и знойной Сахары. Кайруан, словно, город-призрак, где все желтое, засухшее и пожелтевшее: Кайруан остается вратами в моем восприятии Африки … облупленный город стоит точно призрак, сухой . Пережаренный, злой , запахнувшийся в дымный бурнус из песков, гоготавший и в очи, и в дни, взрывавших в черные ночи первозданные страхи [Там же, с. 358]. А. Белый создает две уникальные метафоры: Кайруан – город, обращенный в прошлое, в глубь Африки, противостоит Европе: Облупленный жженный стоит Кайруан; он «ветхий деньми», непокорный, подставивший спину Европе, глядящий расширенным, воспаленным болезнями глазом в Сахару, зовущий к себе не Тунис. Тунис молод и наполнен яркими красками жизни : белый надменный Тунис, молодеющий, напоминающий бледного мавра в роскошном тюрбане [Там же, с. 340].
Но Кайруан – это еще и глубина истории, прошлое и мудрость: Седой Кайруан загляделся на славное прошлое [Там же, с. 345], весь Кайруан – грезит прошлым [Там же, c. 338]. Кайруан – это религиозная святыня, священный религиозный центр Туниса и колыбель распространения ислама в Северной Африке. Он богат мечетями и марабу, своим исламским архитектурным стилем: минаретами, куполами, башнями и воротами, где повсюду ощущается святость. Писатель описывает самые известные мечети Кайруана, дополняя свой рассказ ценными историческими сведениями об их основании и строительстве (первая мечеть Магриба Сиди Окбы, построенная из римских развалин и колонн; мечеть Трех Ворот, представляющая схематический план всех мечетей Туниса; мечеть Цирюльника, где стоит гробница одного из спутников Пророка Мухаммеда; мечеть Саблей, где покоится могила святого). А. Белый подробно останавливается на различных периодах истории ислама в стране, династиях, правителях, мусульманских провинциях, тщательно разъясняет отличия между религиозными мусульманскими течениями и т.д.
Восприняв экзотику новой культуры писатель-путешественник видел в этом новом культурном пространстве проявление некоторых сходств с Россией. Очертания кайруанской равнины напоминают ему о русской природе: В этой равнине есть что-то от русской равнины; чу – звоны бубенчиков (как и в России): сквозь ветер; такие же пески наползают с Востока в пространствах лихих оренбургских, самарских степях [1, с. 340].Сам желтый город Кайруан точно Кремль [Там же, с. 339] укреплен желтеющими стенами зубцов, защищая со всех сторон света кишащий народами город от серых пригорков и рытвинок солончаковой равнины [Там же, с. 340]. Взгляд дервиша, умершего от укуса ядовитой змеи, напомнил А. Белому взгляд хлыстовкии взгляд первой русской камерной певицы М.А. Олени- ной, исполнявшей песни Шумана. Писатель увидел «давнюю тоску о мире», которая снимает все национальные и религиозные различия.
После Кайруана с его минаретами, марабу, дервишами, автор отправился поездом на север страны: «Суз», «Калаа-Спира», «Джбель-Ресс», «Двугорой», «Громбалия», «Гаммам-Лиф» [Там же, c. 359]. Прогулки по Карфагену и бело-голубому Сиди бу Саиду открывают новые образы. Вековая история проглядывает здесь через растительность, в музее Карфагена хранятсядревние финикийские экспонаты. Здесь А. Белый снова, как и в путевых заметках «Офейра», размышляет о связи культуры. Истоки многоликости и разноцветности Туниса, по А. Белому, заложены в глубине истории: брызги разбитой культуры на северо-западе Африки, точно осколки стекла, здесь и там, через зелень позднейшей пробившейся жизни блистают отчетливо; и – желтосиний орнамент Тунисии, верно, неспроста – такой желтосиний; неспроста мальтийским крестом увенчали щиты туареги; неспроста венчает отчетливый крест туарегский кинжал [1, с. 362].
Посещая Карфаген и Сиди бу Саид, русского писателя не покидает мысль о противостоянии Африки и Европы. Едва затронутая тема в путевых заметках «Офейра» в «Африканском дневнике» получают развитие. На страницах своего произведения А. Белый предсказывает события, происходящие в современном мире. Африка – это «двадцать две» Франции, которые со временем покорят саму Францию : Франция быстро толстеет, она – негритянка; не гальский петух ее символ; и – не кадриль ее танец, скорей ее символ – жираф, ее танец – канкан; и не надо быть тонким провидцем, чтоб внятно понять: уже даже в ХХ столетии в тонкие звуки «рояльной культуры» Европы войдет глухо-дикий рыдающий звук барабана, там-тама; «ля-ля» превратится в звук: «бум». И забумкает звуком «бум-бума» пространство Европы. О, бедная Франция! [Там же, с. 366–367].
Здесь же А. Белый уже как культуролог размышляет о культурах и соотносит их с идеями Шо-пенгауера [1, с. 371]. Четыре культуры Северной Африки получают у символиста различные цветовые смыслы: культура Берберии (=Марокко) – черная, черно, коричнево-серая; в коричневейшей почве копается темно-коричневый бербер в коричнево-сером своем капюшоне… »; культура Туниса – бирюзовая, ее « синит, зеленит арабеска »; Кайруан – белеет бурнус, как признак, как отзвук великого света огромной культуры [Там же, с. 372]. Здесь же он выделяет берберо-арабский смешанный тип культуры на юге страны, который брызжет оранжево-желтыми красками .
Итак, это эмоциональное и образное восприятие разных культури, в целом, посещаемой страны зародились в ходе странствий А. Белого как путешественника, писателя, а не научного исследователя. В путевых заметках «Офейра» и «Африканском дневнике» возникает не только образ путешествия, но и образ автора-путешественника, мыслителя и образ страны, как говорил А. Белый, «Тунисии» с ее городами, природой, историей, культурой, архитектурой, народностями и отдельными персонажами.
Тунис, его богатая история, богатое переплетение народов и религий привлекает внимание и современных поэтов. Так, интересные образы Туниса представлены в стихотворениях одного из известных российских поэтов Евгения Чигрина. В 2011 г. он посетил Тунис и был участником поэтического вечера, проведенном Российским центром науки и культуры Туниса в Доме резиденции А.А. Ширин-ской в городе Бизерта. В 2012 г. был опубликовал сборник стихов «Погонщик», состоящий из четырех циклов: «Остравистие земли», «Колониальные песни», «Смычковая музыка» и «Подводный шар».
«Колониальные песни» – это своеобразные путевые заметки из далеких путешествий – Индия, Цейлон, Тунис, Марокко, острова Полинезии... В этих стихах отражены впечатления поэта-путешественника. Как отмечают рецензенты: «В стихах Чигрина витает дух серебряного века русской поэзии, они манят читателя в далекие страны, в них звучит музыка чужих наречий, но вместе с тем они очень современны, внутри этой «копилки снов» пульсирует родник живого поэтического слова, густая звукопись…» [12]. В этот цикл включены стихотворения, посвященные Тунису, его городам, культуре, бескрайней Сахаре(«Кайруан», «Набуль», «Вид на мечеть, или прогулка по Сиди-бу-Саиду», «Сахара»). В геокультурных образах Чигрина мы ощущаем восточные исламские мотивы И. Бунина, африканские образы Н. Гумилева и А. Белого. Не случайно в качестве эпиграфа к стихотворению «Кайру- ан» [16] поэтом избраны строки из «Африканского дневника» А. Белого (Н. Бугаева), а в самом тексте символист назван «молочным африканцем»: Все гумилевым «варится», все бдит // Бугаевым – молочным африканцем. Пространство Кайруана наполняется не только религиозным содержанием (Прижмусь к стене и стану Кайруаном, / Мечеть Окба надышит алкораном,…), но и живыми красочными образами. Так, в «мираже медины» ползет «синий» туарег, слышен смех арабских женщин. Этот «локальный колорит», как отмечает поэт, наполнен и пейзажными зарисовками: Фонарь заснул богатым оборванцем, / Не развенчав локальный колорит, / Над минаретом движется «шамуб» / Луны, вдохнувшей мегатонны шиши.
В стихотворении «Набуль» [17] поэт приводит другие узнаваемые геокультурные атрибуты: глина, апельсины, халва, инжир, мечеть-стрела, Сук эль-Джума и др. Но и в этой экзотичной повседневности присутствует образ Востока, который тесно связан с русским поэтом Буниным: « Скиталец Бунин прорастает в суре // От муэдзина: пятница… Восток». Е. Чигрин вслед за классиками Серебряного века создает свой неповторимый образ Туниса, наполняя конкретные топонимы художественной образностью и символикой.
Итак, геокультурный образ Туниса, находящегося на стыке средиземноморской, африканской и арабо-восточной культур, нашел яркое художественное воплощение в русской литературной традиции (в путевых очерках художника К.С. Петрова-Водкина, в путевых заметках А. Белого, в стихотворениях Н. Гумилева и Е. Чигрина). Писателей и поэтов привлекала и привлекает его особое географическое расположение, арабская восточность, богатая история и культура. Из всех названных авторов мы подробно остановились на путевых заметках А. Белого. Используя метафорическое и символическое значение звуков, красок, геометрических образов, писателю символистуудалось создать один из наиболее ярких геокультурных образов страныначала ХХ в.
Список литературы Геокультурный образ Туниса в русской литературной традиции
- Белый А. Африканский дневник/Публ. текста С. Воронина//Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.: Альманах. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1994. Т. 1. С. 330-454.
- Белый А. Офейра: путевые заметки. М.; Берлин: Геликон, 1922. Т. 1.
- Бунин И.А. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Худож. лит., 1988. Т. 6.
- Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Т.1. М.: Худ. лит-ра, 1991.
- Дюма А. Усыпальница Людовика Святого. Арабская женщина//«Вокруг света». Июль 2008. . URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6276/
- Ельцова Е.Н. Африканские образы в творчестве Н. Гумилева//Кормановские чтения. Статьи и материалы Межвузовской научной конференции (апрель, 2011). Ижевск, 2011. Вып. 10. С.164-169.
- Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство и язык географических образов. СПб., 2003.
- Замятин Д. Н. Понятие геокультуры: Образ и его интерпретации//Социологический журнал. 2002. № 2. С. 5-12
- Лавренова О.А. Отображение географического пространства в русской поэзии 18-начала 20 века: Геокультурный аспект: автореферат дис.. канд. географ. наук. М., 1996. . URL: http://www.dslib.net/econom-geografia/otobrazhenie-geograficheskogo-prostranstva-v-russkoj-pojezii-18-nachala-20-veka.html
- Мохаммади З. А.С. Пушкин и Восток: заметки к теме//Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология, 2008, № 3. С. 126-131.
- Петров-Водкин К.С. Поездка в Африку. «На рассвете». Вып. 1, Казань, 1910. . URL: http://dugward.ru/library/petrov-vodkin/petrovvodkin _ poezdka _ v _ afriku.htm
- Три рецензии на книгу стихов Евгения Чигрина «Погонщик». URL: http://www.liveinternet.ru/users/sveta_kosach/post247626892.
- Хмельницкая Т.Ю. Поэзия Андрея Белого//Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1966.
- Чач Е. А. Египетские впечатления Константина Бальмонта и Андрея Белого (К вопросу об ориентализме в русской культуре Серебряного века)//История и культура: Исследования. Статьи. Публикации. Воспоминания. Вып.8 (8). СПб, 2010.С.112-135.
- Чигрин Е. Погонщик//Новый Мир. 2010, 2. . URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/2/chi7.html
- Чигрин Е. Стихи//Звезда, 2011, № 7. . URL: http://magazines.russ.ru/zvezda/2011/7/ch6.html
- Чигрин Е. Стихи//«Зинзивер», № 8 (28), 2011. . URL: http://www.zinziver.ru/publication.php?id=3438
- Шатин Ю.В. Африка Андрея Белого и Николая Гумилева: лики травелога//Русский травелог XVIII-XX вв./под. Ред Т.И. Печерской. Новосибирск, 2015. С. 378-426.