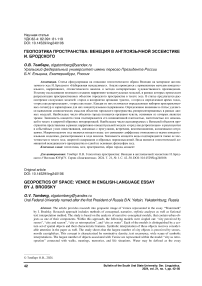Геопоэтика пространства: Венеция в англоязычной эссеистике И. Бродского
Автор: Томберг О.В.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лингвистическая дискурсология
Статья в выпуске: 1 т.21, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья сфокусирована на описании геопоэтического образа Венеции на материале англоязычного эссе И. Бродского «Набережная неисцелимых». Анализ проводится с применением методов концептуального, нарративного, стилистического анализа и метода интерпретации художественного произведения. В основу исследования положено создание нарративно-концептуальных моделей, в рамках которых происходит репрезентация пространственных объектов городского пространства в тексте эссе. В статье предлагается рассмотрение следующих моделей: «город в восприятии органами чувств», ««город в определенное время года»,«город как ретроспекция», «город как вода». Каждая из них отличается определенным набором пространственных сигнатур и характерным для них концептуальным содержанием. Определенное внимание в статье уделяется выявлению символических смыслов объектов городского пространства, реперезентированных в рамках данных моделей. Наибольшее число объектов города познается органами чувств, основным из которых является зрение. Значимость концепта глаза подтверждается его номинативной плотностью, частотностью его номинаций в тексте и широтой образных интерпретаций. Наибольшее число ассоциируемых с Венецией объектов пространства представлены в рамках нарративно-концептуальной модели «город как ретроспекция» и реализуются в событийных узлах повествования, связанных с прогулками, встречами, воспоминаниями, жизненными ситуациями. Макроконцептом эссе является концепт воды: его связывают диффузные отношения со всеми концептуальными моделями, рассмотренными в ходе анализа. Значимость концепта воды подтверждается также ее частотностью в тексте эссе, широтой содержания и образных переосмыслений. Вода является геопоэтической доминантой венецианского пространства и одной из основных философем эссе.
Геопоэтика, эссе, пространство, образ города, концепт
Короткий адрес: https://sciup.org/147243319
IDR: 147243319 | УДК: 82-4: | DOI: 10.14529/ling240106
Текст научной статьи Геопоэтика пространства: Венеция в англоязычной эссеистике И. Бродского
На современном этапе филологического знания изучение пространства возможно с нескольких исследовательских позиций. Прежде всего оно изучается в неразрывной связи со временем, служит фоном раскрытия примет исторического времени в художественном произведении и само, в свою очередь, «осмысливается и измеряется временем» [2, с. 10].
Семиотический ракурс включает в себя изучение пространственных отношений и формирование на их основе символических и культурных смыслов [9, 13], пространственной организации как средства построения культурных моделей [10], пространственных кодов [22], пространственного семиозиса [23].
В историко-культурной перспективе пространственные образы изучаются как отражение географического пространства в текстах культуры, в которых они образуют гео-этнические панорамы – широкий по диапазону обобщающий способ видения, отвечающий на три основных вопроса: где? когда? кто? [16, с. 30].
Изучение пространства с позиции геопоэтики представляет собой широкое поле междисциплинарных исследований [15, с. 153]. Геопоэтика сфокусирована на изучении осваиваемых национальной культурой элементов географических пространств, их образно-символических воплощений в литературе, феномене локальных текстов, например, петербургский текст [17], сибирский текст [19, 25], уральский текст [1], грузинский текст [8] и др.
Важным для изучения представляется выбор тех или иных пространственных объектов, их се-миотизация в художественных текстах. Геопоэти-ческие образы не совпадают со своими географическими оригиналами: они являются элементами фикционального мира [24, с. 41–43], геопоэтиче-скими реальностями [1]. Описание пространства антропологично и почти всегда представляет собой эмоциональную рефлексию человека на встречу с ним и ее символическое осмысление [5, 6].
Предметом геопоэтического исследования может выступать широкая палитра географических объектов [4]. Однако безусловной доминантой подобных исследований является образ города, который занимает особое место в системе выработанных культурой смыслов [11, с. 208]. Эстетическое освоение города предполагает символическое осмысление его пространства и человека в нем.
Одним из знаковых городов для постижения русской культурой является итальянская Венеция: она всегда жила в душе русских людей, влюбленных в Италию [26, с. 214]. Образ Венеции осмыслен в произведениях М. Лермонтова, Ф. Тютчева, И. Козлова, И. Бунина, А. Апухтина, А. Блока, В. Брюсова, Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Волошина, Б. Пастернака, И. Бродского. По мнению Т.В. Цивьян, основными сигнатурами Венеции являются вода, твердь, архитектурные сооружения и памятники, картины и художники, персонажи, историко-культурные реалии и артефакты, музыка, наиболее характерные цвета и эпитеты [21, с. 44]. При всей общности сигнатур у каждого интерпретатора Венеции своя оптика, свое ви́ дение ее пространства , свои особенности его концептуализации.
Одно из самых полных литературных путешествий по Венеции представлено в англоязычном эссе И. Бродского “Watermark” (“Fondamenta degli incurabili” в варианте эссе на итальянском языке, «Набережная неисцелимых» в русском переводе). Это глубоко личная, ностальгическая встреча с Венецией, которая аккумулирует впечатления от многочисленных посещений этого города. Эти впечатления отлиты в форму эссе. Будучи свободным, без четких контуров, жанром, эссе сфокусировано на осмыслении диады «человек и мир» на широком фоне соединения эпох, культур, всего человеческого опыта и знания [7, с. 8]. Это реализуется посредством переключения всех планов: композиционно-речевых, понятийно-художественных, конкретно-абстрактных, что создает «лабиринты сцеплений» при развертывании содержания эссе [7, с. 34].
В таком жанровом воплощении предстает Венеция в эссе И. Бродского: образ города складывается из наблюдений, ретроспекций, прогулок, впечатлений, встреч, размышлений. На фоне объектов городского пространства осмыслены ключевые темы произведения. В результате складывается уникальный геопоэтической образ Венеции: сигнатуры города, сохраняя свои естественные характеристики, предстают в авторском воплощении.
Методы исследования
Геопоэтика, являясь гибридной формой научного знания, черпает свои методологические подходы из различных дисциплин гуманитарного цикла: литературоведения [1, 6, 18], семиотики [5, 10, 11, 14, 24], герменевтики [20, с. 81], стилистики и лингвостилистики [1, 12].
Данное исследование также выполнено в русле методологического синтеза. Его основой являются концептуальный и нарративный анализ.
Концепты анализируются по трем основным параметрам:
-
1) номинативная плотность, которая определяется как число прямых и непрямых номинаций в номинативном поле концепта;
-
2) частотность, которая определяется как встречаемость номинаций концепта в тексте эссе;
-
3) текстовая интерпретация концепта, включающая анализ образной, символической составляющей репрезентантов концептов в пространстве текста.
На основе нарративного анализа наиболее частотные концепты, репрезентирующие в эссе пространственные объекты, объединяются в концептуальные модели. Особенностью повествовательной структуры эссе является полисюжетность: каждая из его глав имеет свою сюжетно-мотивную линию, которая раскрывает общую тему произведения с нового угла зрения. При очевидном их многообразии можно выделить доминантные. Предлагаемые к анализу концептуальные модели представляют собой нарративные формулы освоения города, которые соотносятся с мотивно-сюжетными доминантами эссе.
При анализе концептов внутри выделенных моделей использовались контекстуальный, лингвостилистический, интерпретативный виды анализа.
Результаты исследования
Наибольшее число объектов городского пространства осмыслено в рамках модели «город в восприятии органами чувств ». Город постигается органами чувств: зрением, обонянием, осязанием. Несомненное первенство в осмыслении городского пространства принадлежит зрительному каналу восприятия: поскольку «человек – это то, на что он смотрит» (“Оne is what one looks at” [3, с. 26]).
Зрительный модус восприятия венецианского пространства доминирует как при первом знакомстве с городом (the city of the eye [3, с. 24], так и при прощании с ним ( departure is not the body leaving the city but the city abandoning the pupil [3, 23]).
Из всех соматизмов, представленных в эссе, концепт глаза является самым разработанным. Об этом свидетельствует текстовая частотность лексических репрезентантов концепта, объем их символической интерпретации, высокая степень их диффузности и формирование контекстуальных кластеров с ведущими тематическими концептами.
Концепт глаза отмечен широтой номинаций, каждая из которых актуализирует определенные нюансы зрительного восприятия пространства:
– глаз как орган зрения и его компоненты: глаз (eye), включая непрямые и метафорические номинации (raw, fishlike internal organ); зрение (eyesight); зрачок (pupil), включая метафорические номинации (exposed jelly); сетчатка (retina);
-
– способ видения: видеть (to see), смотреть (to look at), пристально смотреть (to stare), внимательно рассматривать (to scan), изучать (to learn), раcпознавать (discern), разглядывать (to stare down), всматриваться (to scrutinize), находить (to find), различать (to recognize), видеть насквозь (to see through), отмечать (to register);
-
– расширение / улучшение способностей зрительного восприятия: тренировать глаз (train one’s eye), улучшать силу зрения (enhance your eye’s power);
– метафорические номинации, акцентирующие широкую палитру способов зрительного восприятия города: глаз в Венеции купается (swim), ныряет (dive), мечется (flap), бросается (dart), качается (oscillate), закатывается (roll up), запрыгивает на поверхности (pop up), блуждать (rove), коллекционирует (collect), ищет (look for).
Зрительный модус предполагает не просто беглое знакомство с определенными точками пространства, но внимательное их изучение; в поле зрения попадают мельчайшие детали архитектуры города. В результате через постижение глазом создается причудливый узор венецианского пространства. Зрение является способом интродукции широчайшей палитры городских объектов и их элементов:
– циферблаты городских часов ( clock faces),
– расписание на станции ( timetables),
– узоры на мраморном полу станции ( varicose marble under your feet),
– фасады городских зданий ( facades),
– фронтоны ( frontones),
– восточные мотивы архитектуры города ( oriental motifs in venetian architecture),
– кружево мрамора и венецианских фасадов ( marble lace; lace of venetian faсades),
– мозаика ( inlays),
– капители ( capitals),
– карнизы ( cornices),
– рельефы ( reliefs),
– лепнина ( moldings),
– обитаемые и необитаемые ниши ( inhabited and uninhabited niches),
– херувимы, ангелы, святые ( cherubs, saints, angels, maidens),
– кариатиды ( caryatids),
– арки ( pediments),
– статуя аполлона ( statue of apollo),
– мост над черным изгибом воды ( a bridge arching over a body of water's black curve),
– отраженные в воде палаццо ( reflected palazzi),
– гондолы ( gondolas),
– балконы и балконные балясины / «оголенные икры оконных балясин» ( balconies with their ample kicked-up calves ),
-
– готические и мавританские окна ( Gothic or Moorish windows),
-
– узкие улицы ( streets - narrow, meandering like eels),
-
– площадь и собор ( a campo with a cathedral in the middle of it),
-
– похожие на Медузу купола соборов ( Medusa-like cupolas ),
-
– длинные извилистые улицы и переулки ( long, coiling lanes and passageways).
Все объекты пространства, которые видит и постигает глаз, имеют райскую наружность ( clearly paradisaical visual texture ), красивы ( dreamlike beauty ) и поэтому безопасны. Они противостоят враждебности окружающего мира, приносят утешение и покой, и это тоже фиксирует глаз, который постоянно находится в поиске безопасности во внешнем мире: A statue of Apollo doesn't bite, nor will Carpaccio's poodle [3, с. 78].
Город может пропадать из поля зрения во время тумана, который также концептуализирован образами пространства: стертые здания, мосты, колоннады, вывернутые наизнанку анфилады, окутанный подкладкой город. Такая Венеция символически осмыслена как утратившая зримость, она побуждает человека (особенно одинокого) к самозабвению и причастности к незримости города ( sharing its invisibility ): … a time for self-oblivion , induced by a city that has ceased to be seen [3, с. 46].
Часть пространственных объектов постигаются зрением в сочетании с обонянием. Этим синтезом концептуализируется первая встреча поэта с городом: staring down clock faces and timetables; scrutinizing varicose marble under your feet; inhaling ammonia [3, с. 7].
Эти чувственные впечатления от пространства сочетаются также с запахом мерзлых водорослей ( the smell of freezing seaweed ), который приводит автора в состояние полного счастья ( a feeling of utter happiness ), будучи ассоциированным с местом детства, с Балтийским морем:
No doubt the attraction toward that smell should have been attributed to a childhood spent by the Baltic [3, с. 9].
Запах актуализируется рядом прямых и метафорических номинаций: а scent, a smell, a stench, a violation of oxygen balance, a molecular affair . Контекстуальные связи сближают его с концептами счастья и свободы: запах приносит счастье, когда в пространстве чувствуются выпущенные на свободу свои собственные запахи (the elements of your own composition being free [3, 9]: так пахла Венеция во время первой встречи с ней.
Запах может делать пространство невыносимым. Такой Венеция становится для И. Бродского в жаркое время года, когда пространство наполнено запахами по́та и выхлопных газов:
I take heat very poorly; the unmitigated emissions of hydrocarbons and armpits still worse [3, с. 21].
Этот пример иллюстрирует открытость концептуальной модели и ее диффузные отношения с моделью « город в определенное время года» . На фоне описания времен года в эссе также актуализировано определенное число пространственных образов. В этой модели описания города несомненное преимущество принадлежит зиме – «абстрактному сезону» (abstract season), способному высветить истинную красоту пространства: beauty at low temperatures is beauty [3, с. 21].
Именно зимой, когда все вокруг становится более твердым (harder) и жестким (more stark), можно увидеть реальную Адриатику (more real than at any other).
Образ зимней Венеции включает в себя следующие пространственные объекты:
-
– модные лавки Венеции ( Venetian boutiques),
-
– звон венецианских колоколов ( chiming of its innumerable Bells),
-
– фронтон церкви Сан-Заккариа ( San Zacca-ria's frontone),
-
– базилику Сан-Джорджо ( San Giorgio),
-
– рябь лагуны ( laguna's lapping ripples),
-
– колоннады Палаццо Дукале ( colonnades of the Palazzo Ducale),
-
– оцинкованные купола ( zinc-covered cupolas),
-
– барочные и готические фасады ( Baroque and Gothic faсades).
Необходимо отметить частотность контекстуальных сближений концептов зрения и зимы. Так, большинство из представленных выше сигнатур изображены в отблесках зимнего света (winter light). Это свет Джорджоне или Беллини, цель которого – сделать предмет видимым (to reach an object and make it, big or small, visible [3, с. 61]), увеличить разрешающую способность глаза и зрачка до микроскопической точности и резкости (the extraordinary property of enhancing your eye's power of resolution to the point of microscopic precision – the pupil [3, с. 59]).
Зимний свет акцентирует мельчайшие детали городского пространства, маленькие статуи и украшения зданий в виде чудовищ мифологического характера: с головой льва и туловищем дельфина (a little monster, with the head of a lion and the body of a dolphin), драконы, горгульи, василиски, сфинксы с женской грудью, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры (dragons, gargoyles, basilisks, female-breasted sphinxes, winged lions, Cerberuses, Minotaurs, centaurs, chimeras [3, с. 61]). Особенно значимы в этом пространстве херувимы ( cherubs ), число которых огромно и способно даже превысить число городских жителей (they might outnumber the natives [3, с. 62]).
Обилие этих сверхъестественных существ превращает улицы Венеции в лабиринты, переплетения света и темноты. Особое место в наружности города занимают образы львов (включая Льва Святого Марка), имеющие символическое значе- ние света, которые разгоняют зимние сумерки: In winter, they brighten one's dusk [3, с. 67].
Важным модусом репрезентации городского пространства является концептуальная модель «город как ретроспекция» , которая объединяет определенные локации, связанные с переживаниями и событиями жизни поэта:
-
– Площадь Сан-Марко – воспоминания о фотографии с изображением площади в журнале Life.
– Палаццо Дукале – детские воспоминания о принесенном матерью поэта гобелене с вышитой достопримечательностью.
– Фондамента делла Арсенале (набережная у венецианского Арсенала) – воспоминания о встрече египетского военного корабля, швартовавшегося у набережной. Это воспоминание – единственная в эссе аллюзия на Восток, символом которого выступает похожий в профиль на Стамбул круизный лайнер (Istanbul in profile) с похожими на минареты мачтами (momentarily turning to minarets) [3, с. 68].
– Гостиница «Лондон» и улица Салюте Сесть-ере – воспоминания о встрече в 1977 году с Ольгой Радж, подругой покойного Эзры Паунда. Впечатления от этой встречи переданы символикой пространственных образов. Так, адрес проживания Ольги подчеркивает ее «чужесть», изолированность от местного населения (the part of town with the greatest , to my knowledge, a percentage of foreigners in it [3, с. 54]); стоящий на полу гостиной бюст умершего поэта навевает скуку (the grip of boredom [3, с. 54]). После этой встречи поэт оказывается на Набережной неисцелимых.
– Набережная неисцелимых (ит. Fondamenta degli incurabili) – знаковая сигнатура венецианского пространства. Вынесенная в название итальянской версии эссе, эта номинация не является реальной: на самом деле это набережная Дзаттере. «Неисцелимым» (incurabili) именовался один из кварталов Венеции, где находился госпиталь для смертельно больных. Объединяя два топонима, И. Бродский создает образную номинацию венецианского пространства, имеет широкое символическое значение. Так, в размышлениях об этом Ю. Леп-ский пишет: «Так вот почему он предпочел назвать это место „Набережной Неисцелимых“: оно слишком напоминало ему родной город, из которого он был изгнан, в который ему не суждено было возвратиться при жизни… Он любил дарить „Набережную“ с неизменной надписью „От неисцелимого Иосифа“»1.
– Церковь, где крестили Антонио Вивальди – шутливая аллюзия на «общность» поэта и композитора через акцентирование рыжины их волос; воспоминание о встрече Ольги Радж с композитором Стравинским во время недели Вивальди.
– Фондамента Нуова, церковь Сан-Микеле, здание больницы Джованни и Паоло – воспоминание об обеде (жареная рыба и полбутылки вина) и чувстве абсолютного, «кошачьего» счастья: I suddenly felt: I am a cat. A cat that has just had fish. I was absolutely, animally happy [3, с. 75].
– Церковь Фава – воспоминания о холоде квартиры, которую поэт и его соратница снимали недалеко от этой церкви в очередной зимний приезд в город. Этот холод концептуализируется как антарктический ( antarctic ), полярный ( polar ), всепоглощающий и абсолютный ( everything emanates cold [3, с. 85]), похожий на ад ( Hell is the Arctic [3, с. 86]). Символом холода в этом контексте представлен памятник Франческо Кверини в садах Венецианской биеннале (Жардиньо) – по аналогии с закутанной перед сном соратницой поэта (With the scarf around her neck and head she looked like Francesco Querini on that statue in the Giardini [3, с. 86]).
– Венецианский палаццо – эта ретроспекция представляет наиболее полное описание внутреннего пространства палаццо, «венецианское святая святых» ( a Venetian inner sanctum ). Сам палаццо концептуализируется как лабиринт ( beyond-the-amalgam labyrinth ) с длинными, плохо освещенными галереями ( long, poorly lit gallery ), анфиладами, кажущимися ужасной и вязкой бесконечностью ( like a vicious, viscous infinity ), длинной чередой пустых комнат. Перемещение по горизонтальной спирали палаццо символизирует убывание человека, вплоть до его полного исчезновения из многочисленных зеркал пространства ( disappearance, nonexistence, subtraction, pitch-black nothing).
– Лагуна, Сан-Микеле (Остров мертвых), Каннареджо, церковь Мадонна-дель-Орто – воспоминание о прогулке на гондоле по этому маршруту. Опыт скольжения по воде семиотически осмыслен как чувственное осязательное переживание, похожее на прикосновение к коже любимого человека.
– Отель Bauer Grunwald, церковь Сан-Моизе, площадь Сан-Марко, кафе «Флориан» – воспоминания И. Бродским о прогулке по центру Венеции после катания на гондоле. Окутывающий Сан-Марко туман вызвал к жизни аллюзию на последние строки поэмы У.Х. Одена ( silently and very fast ) и воспоминания о встрече с ним во «Флориане». Эта встреча раскрывается в пронзительном символическом контексте любви и предательства, улыбки и слезы.
Вышеперечисленные сигнатуры, репрезентированные в рамках концептуальной модели ретроспекции, представляют собой конкретные, наиболее известные объекты венецианского пространства. Символическое осмысление погружает их в автобиографический контекст жизни И. Бродского и связывает с ключевыми философемами эссе: время, любовь, красота, вода.
Геопоэтической доминантой эссе является концептуальная модель « город – это вода» . Это подтверждается большим числом текстовых номинаций воды, широтой контекстуальных связей, диффузными отношениями этой модели со всеми моделями репрезентации пространства, частотностью «водного» кода при метафоризации в эссе, числом символических интерпретаций и значений воды в тексте. Англоязычное название эссе «Wa-termark» также актуализирует значимость воды в этом городе.
Вода формирует облик венецианского пространства и обитающих в этом пространстве людей.
Бесконечность воды парадоксальным образом ограничивает личное пространство человека в городе ( one's territorial imperative ); в этой тесноте основой городской планировки становятся бесконечные, как вода, пересуды и кривотолки:
Yet insinuation as a principle of city planning … is better than any modern grid and in tune with the local canals, taking their cue from water , which, like the chatter behind you, never ends [3, с. 38].
Вода обостряет все чувства человека в постижении и осмыслении пространства: you never get absentminded, sharpens your wits [3, с. 36].
Вода отражает и дублирует город, его архитектуру, красоту:
Water equals time and provides beauty with its double [3, с. 96].
Поверхность воды отражает Дух Божий – так вода становится символом времени (the image of time) :
I always thought that if the Spirit of God moved upon the face of the water, the water was bound to reflect it [3, с. 34].
Вода сохраняет отражения людей в образе города и тем самым формирует облик города в будущем ( beautifies the future; improves the future ).
Через способность отражать вода связана с любовью – раз отразившись в водах Венеции, влюбленные в этот город путешественники возвращаются в него: an affair between a reflection and its objects; a returning traveler … [3, с. 89].
Как видно из примеров, ключевые философемы эссе осмыслены в тесной связи с водой, в результате чего формируются концептуальные кластеры, характеризующие символический облик Венеции: вода – Бог / Дух Божий; вода – время; вода – движение; вода – красота; вода – любовь. Так, в рамках кластера вода – время раскрывается красота венецианских фасадов:
The upright lace of Venetian faсades is the best line time-alias-water has left on terra firma anywhere [3, с. 35].
Макроконцепт воды объединяет ряд связанных с водой концептов, которые также являются основой номинации венецианского пространства. Прежде всего это концепт рыбы – тропами «рыбного» кода репрезентирован облик Вене- ции: two grilled fish, an octopus, a quadropus, sharks, orata (ит. золотая рыбка), lobster claws, the body of a dolphin, eels, ichthyosaur, old chor-dates.
Водный растительный мир представлен преимущественно водорослями (seaweed), которые символизируют тесноту и запутанность венецианского пространства (scarcity of space):
A mesh caught in frozen seaweed might be a better metaphor. Because of the scarcity of space , people exist here in cellular proximity to one another [3, с. 32].
Наиболее частым определением водорослей в тексте эссе является эпитет frozen (замерзший), что иллюстрирует диффузные отношения между тремя частотными моделями, репрезентирующими пространство: вода – органы чувств (запах) – время года (зима). В этой концептуальной триаде Венеция напоминает И. Бродскому его родной Санкт-Петербург.
Заключение
Изучение Венеции посредством концептуально-нарративного анализа способствует, на наш взгляд, комплексному представлению пространственных объектов города в тесной связи с сюжетными линиями эссе. Это позволяет выделить модели, в рамках которых происходит осмысление тех или иных сигнатур города, обосновать их выбор в той или иной точке повествования, определить их текстовую функцию и символический смысл. Тем самым объекты города оказываются вписанными в индивидуально-авторский, национальный и общекультурный контекст.
Геопоэтический образ Венеции репрезентирован в концептуальных моделях «город в осмыслении органами чувств», «город в определенное время года», «город как ретроспекция», «город как вода». Все эти модели связаны между собой диффузными отношениями посредством общих концептов, их семантических граней, текстовых ассоциативных связей. Наибольшее число объектов Венеции репрезентировано как увиденное глазом, в рамках этой модели пространство Венеции максимально детализировано, вплоть до мельчайших элементов архитектуры города. Из всех времен года только зима может подчеркнуть истинную красоту Венеции: благодаря зимнему свету можно разглядеть все мифические существа, которыми наполнено городское пространство. Многочисленные встречи с городом концептуализированы как ретроспекции на фоне значимых, наиболее известных в мировой культуре объектов венецианского пространства: площадь Сан-Марко, Палаццо Дука-ле, Фондамента делла Арсенале, Фондамента Нуова, церковь Сан-Микеле, церковь Сан-Моизе, кафе «Флориан». Каждый из этих объектов вовлечен в цепь жизненных воспоминаний и философских размышлений относительно главных тем эссе.
Эти темы предстают в тесной связи с пространством Венеции во всех концептуальных моделях. Но их максимальная концентрация достигается при развертывании модели «город как вода»: вода, являясь доминантой геопоэтического образа Венеции, моделирует и определяет основные тематические концепты эссе, образуя его нарративный каркас «вода – красота – время – любовь».
В ходе исследования была выявлена следующая закономерность: конструктивный метатекст, как правило, характерен для произведений, созданных в русле эстетики реализма (романы «Дождь в Париже», «Совдетство»), деструктивный метатекст используется в произведениях, обладающих признаками постмодернистской эстетики (романы «Кысь», «S.N.U.F.F.»).
Список литературы Геопоэтика пространства: Венеция в англоязычной эссеистике И. Бродского
- Абашев В.В., Абашева М.П. Литература и география. Урал в геопоэтике России // Вестник Пермского университета. 2012. 2 (19). С. 143-151.
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Эпос и роман. СПб: «Азбука», 2000. С. 11-193.
- Бродский И.А. Набережная неисцелимых: Эссе. СПб.: «Азбука-классика», 2008. 192 с.
- Замятин Д.Н. Пространство и гетеротопия: к семиотике метагеографического воображения // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2020. 1 (41). С. 29-52.
- Замятин Д.Н. Пространство, город и текст: коммуникативные стратегии постурбанизма // Восток -Запад: пространство локального текста в литературе и фольклоре. Отв. ред. Н.Е. Тропкина. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2019. С. 304-310.
- Иванова И.И. Геопоэтика новейшей отечественной литературы: опыты художественного освоения городского пространства // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. 2015. 8 (2). С. 80-85.
- Кайда Л.Г. Эссе: стилистический портрет. М.: ФЛИНТА, 2022. 182 с.
- Кшондзер М.К. Грузинский текст в контексте поэзии Бориса Пастернака [на материале цикла «волны»] // Восток - Запад: пространство локального текста в литературе и фольклоре. Отв. ред. Н.Е. Тропкина. Волгоград: Издательство ВГПУ «Перемена». 2019. С. 249-256.
- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб: Искусство-СПБ, 2000. 704 с.
- Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство, 2002. 768 с.
- Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: «Александра», 1992. 478 с.
- Молнар А. Организация пространства в «первой любви» И.С. Тургенева: цветы, оранжерея, сад. Восток - Запад: пространство локального текста в литературе и фольклоре. Отв. ред. Н.Е. Тропкина. Волгоград: Издательство ВГПУ «Перемена». 2019. С. 357-364.
- Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. СПб.: Азбука-классика, 2004. 336 с.
- Пеллегрино П. Семиотика пространства: гетеротопия и значение места. Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2020. 1 (41). С. 11-28.
- Сид И. История понятия «Геопоэтика» // Вестник МГЛУ. 2015. 11 [722]. С. 153-170.
- Топоров В.Н. Гео-этнические панорамы в аспекте связей истории и культуры [к происхождению и функциям]. Культура и история. Славянский мир. М. Индрик, 1997. С. 23-61.
- Топоров В.Н. Петербургский текст русской культуры. СПб: Искусство-СПБ, 2003. 616 с.
- Тропкина Н.Е. Урбанистическое пространство в пролетарской поэзии Царицына // Восток - Запад: пространство локального текста в литературе и фольклоре. Волгоград: Издательство ВГПУ «Перемена». 2019. С. 323-329.
- Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. 1. С. 28-35.
- Фещенко В.В., Коваль О.В. Сотворение знака: Очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства. М.: Языки славянской культуры, 2014. 640 с.
- Цивьян Т.В. «Золотая голубятня у воды...»: Венеция Ахматовой на фоне других русских Венеций Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха. 2001. 248 с.
- Чертов Л.Ф. Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике. Москва: Языки славянской культуры, 2014. 550 с.
- Чертов Л.Ф. Семиотизированные пространства в культуре // Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2021. 1 (45). С. 9-32.
- Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 311 с.
- Янушкевич А.С. Сибирский текст: взгляд извне и изнутри // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства: научные доклады. Иркутск: Иркутский государственный университет. 2004. С. 227-235.
- Deotto Р. Образы Италии Муратова: Постижение своего в чужом // Литературное произведение как литературное произведение. 2004. С. 455-461.