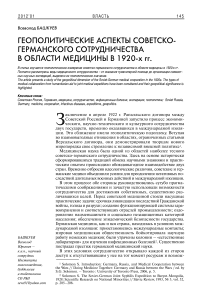Геополитические аспекты советско-германского сотрудничества в области медицины в 1920-х гг
Автор: Башкуев Всеволод Юрьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье изучается геополитическое измерение советско-германского сотрудничества в области медицины в 1920-х гг. Поэтапно рассмотрены виды медицинского сотрудничества - от оказания гуманитарной помощи до организации совместных научных экспедиций, выделено их геополитическое значение.
Советская Россия, германия, медицина, сотрудничество, инфекционные болезни, экспедиции, геополитика
Короткий адрес: https://sciup.org/170166236
IDR: 170166236
Текст научной статьи Геополитические аспекты советско-германского сотрудничества в области медицины в 1920-х гг
З аключение в апреле 1922 г. Рапалльского договора между Советской Россией и Германией запустило процесс экономического, научно-технического и культурного сотрудничества двух государств, временно оказавшихся в международной изоляции. Это сближение имело геополитическую подоплеку. Вступая во взаимовыгодные отношения в областях, ограниченных статьями Версальского договора, они демонстрировали творцам нового миропорядка свое стремление к независимой внешней политике1.
Медицинская наука была одной из областей наиболее тесного советско-германского сотрудничества. Здесь на основе исторически сформировавшихся традиций обмена научными знаниями и практическим опытом происходило обоюдовыгодное взаимодействие двух стран. Временно отбросив идеологические различия, советские и германские медики объединили усилия для преодоления негативных последствий длительных военных действий и международной изоляции.
БАШКУЕВ Всеволод
В этом процессе обе стороны руководствовались сугубо прагматическими соображениями и зачастую использовали возможности сотрудничества для достижения собственных, существенно различавшихся целей. Перед советской медициной стояли насущные практические задачи: срочная ликвидация последствий Гражданской войны, голода и разрухи; создание функционирующей системы здравоохранения и соответствующих отраслей промышленности; оздоровление нацменьшинств и социально незащищенных категорий населения; обеспечение эпидемической безопасности государства. Германская медицина, как и вся страна, находилась в условиях международной изоляции: приостановились международные контакты; мировая медицинская общественность бойкотировала научную работу немецких медиков; были утрачены колонии – «естественные лаборатории» для изучения инфекционных болезней2. Существенно пострадал престиж германской медицинской науки.
В этих условиях сотрудничество открывало каждой из сторон доступ к отсутствовавшим у нее на тот момент ресурсам и возмож- ностям. СССР получал высококлассную экспертную помощь; советские ученые – доступ к современным лабораториям, медицинским и фармацевтическим технологиям, возможность обсуждать результаты своей работы с немецкими коллегами через публикации в германских, отечественных и совместных журналах и участие в международных научных мероприятиях. Германская медицинская наука приобретала возможность производить исследования на больших группах населения, пораженных инфекционными болезнями, что для европейских государств того периода было возможно только в колониях. Это давало немцам простор для сбора уникального исследовательского материала, проверки научных гипотез, апробации методов профилактики и лечения болезней. Кроме того, они могли в реальных условиях испытывать новые медицинские препараты, открывая германской фармацевтической промышленности доступ на обширный рынок сбыта.
Координация такой деятельности могла осуществляться только при условии многоуровневого межинституционального взаимодействия и санкции высших органов государственной власти. Поэтому в сотрудничество были вовлечены различные государственные и частные структуры – от дипломатических ведомств и наркоматов до общественных организаций и благотворительных фондов. В этих условиях переплетались интересы, проявлялись скрытые замыслы и цели, возникали и исчезали неформальные лобби. Для германской науки оказание гуманитарной помощи Советской России было одновременно средством поднятия престижа, как в собственных глазах, так и в глазах мировой медицинской общественности. Кроме того, помогая советским коллегам ликвидировать последствия голода и эпидемий, германские ученые рассчитывали на создание стабильного авторитета немецкой культуры, науки и медицины на Востоке, что косвенным образом способствовало бы реализации геополитической концепции «жизненного пространства»1.
Ранние этапы германского содействия
России в области медицины пришлись на годы хаоса, порожденного войной, революцией и распадом Российской империи. После заключения в 1918 г. Брест-Литовского мира германские мобильные лазареты и госпитали появились на обширной временно оккупированной территории – от Украины до Баку, где свирепствовали эпидемии тифа, холеры и инфлюэнцы. После ухода оккупационных войск некоторые из этих полевых медучреждений остались (например, военный лазарет в Тифлисе), чтобы впоследствии стать опорными точками германосоветского медицинского сотрудничества. Поддержку также получили больницы на территориях компактного расселения российских немцев. Этот опыт заработал положительную оценку деятелей немецкой медицины, рассчитывавших на упрочение авторитета германских врачей в так называемых «полукультурных» областях Востока2.
Одновременно германские санитарные власти обвинили Польшу в попытках подрыва эпидемиологической безопасности Германии посредством депортации со своей территории больных тифом и не прошедших дезинфекцию этнических немцев. Обвиняя П ольшу в развязывании биологической войны, германские круги в ее лице жестко критиковали Версальский мировой порядок, требуя создания «защитного санитарного заслона» на пути инфекции. В оказании медицинской помощи Советской России немцы видели геополитический противовес созданной державами Антанты системе центральноевропейского «санитарного кордона». Тем самым сквозь гуманную оболочку медицинской помощи начинал проглядывать ирредентизм, а узкоспециализированный медико-санитарный дискурс приобрел геополитический подтекст.
Следующим шагом стало оказание Германией гуманитарной помощи голодающим Советской России. После опубликованного в июле 1921 г. призыва А.М. Горького к общественным деятелям Европы и Америки и обращения о помощи Патриарха всея Руси Тихона во многих странах мира был организован сбор про- довольствия, медикаментов и средств1. В голодающие губернии России были направлены миссии Американской адми -нистрации помощи (АРА), Нансеновского комитета, Международной ассоциации помощи детям и других гуманитарных организаций. С немецкой стороны в этой операции участвовал Германский Красный Крест (ГКК). В сентябре 1921 г. в Петроград прибыло германское госпиталь -ное судно «Тритон», доставившее гума-нитарный груз и медицинскую команду, начавшую оказывать помощь беженцам. Затем в голодающие районы был направ-лен медицинский эшелон, в состав кото рого входили бактериологи, санитарный врач, инженеры, двадцать медсестер. Эшелон также вез значительное количе -ство медицинского оборудования2.
Помимо своего прямого назначения, немецкая экспедиция собиралась изучать российских немцев, для чего эшелон с медиками и оборудованием направился в Поволжье. В реальных условиях сразу же обнаружилась недостаточная подготов ленность германской миссии к выпол нению гуманитарных задач. Немцы не ожидали столкнуться со столь огромным числом голодающих и, в отличие от дру гих гуманитарных миссий, не располагали большим запасом продуктов для раздачи. Германским медикам не удалось добраться до территории поволжских немцев: из - за противодействия советских органов путь эшелона закончился в Казани.
Тем не менее опыт германской экспеди ции оказался показательным. Во первых, немецкие медики на практике учились принимать во внимание реальные усло вия Советской России и контактировать с советскими органами власти. В отличие от других иностранных представителей, враждебно воспринимавших советскую власть, немцы проявляли к ней лояль ность, избегая при этом контактов с гума нитарными миссиями других государств. Здесь снова проявилась германская гео политическая игра, строившаяся на антагонизме между державами Антанты и большевиками, для создания положи - тельной репутации Германии и упроче ния ее положения в глазах новой власти.
Во вторых, работая на укрепление германо советских связей в условиях неблагоприятной для обеих сторон геопо литической ситуации, немецкие медики решали ряд актуальных для себя проблем. Так, несмотря на видимые противоречия с санитарными комиссарами Лиги Наций в пораженных тифозной эпидемией губерниях Советской России, немцы все же вошли с ними в контакт. Результатом явилось приглашение Германии, России и Украины, не состоявших в Лиге Наций, на созванную в марте 1922 г. в Варшаве Европейскую международную конфе -ренцию по проблемам здравоохранения, на которой тиф был признан общеев ропейской угрозой. Германские медики также нащупали «осевые точки», ставшие основой будущих взаимовыгодных отно шений в области медицины и ее отрас лей. Не последнее место здесь занимали судьбы российских немцев. В - третьих, среди немецких медицинских функцио неров, имевших опыт сотрудничества с Советской Россией, выделилась когорта незаурядных организаторов науки и уче ных, сыгравших ключевую роль в даль нейшем развитии отношений. Среди них были О. Фогт — один из основателей институтов по изучению мозга в Берлине и Москве и Х. Цейс — будущий создатель германского гибрида медицинской гео графии, расовой антропологии и геопо литики, получившего название «геомеди цина».
Описанные события были только пре людией к Рапалльскому договору. После 1922 г. двустороннее медицинское сотруд-ничество вышло на качественно новый уровень. Стараниями Х. Цейса временная экспедиция Германского Красного Креста в Советской России превратилась в посто янно присутствующее в стране германское медицинское учреждение. После ухода АРА и Нансеновского комитета к осени 1923 г. ГКК остался единственной круп -ной иностранной гуманитарной миссией в стране, располагавшей персоналом и оборудованием3. Дальнейшая работа ГКК требовала подписания нового договора с правительством СССР. Его обсуждение происходило через Комиссию загранич ной помощи при Президиуме ВЦИК под руководством О.Д. Каменевой1. Тем временем Х. Цейс занялся обустройством в Москве Центральной бактериологической лаборатории, которая должна была стать основой советско-германского медицинского сотрудничества.
В определенном смысле Х. Цейс создавал в России «жизненное пространство» для немецкой медицинской науки. Менее чем за десятилетие он сумел установить тесное сотрудничество с ведущими научными центрами наркомата здравоохранения: Саратовским областным институтом микробиологии и эпидемиологии, химико-фармацевтическим научным институтом, Институтом экспериментальной терапии и контроля сывороток и вакцин.
С геополитической точки зрения основным достижением Х. Цейса было осмысление зависимости распространения инфекционных заболеваний в СССР от социально-исторического развития его территорий. Путешествуя по республикам СССР, от автономии немцев Поволжья до Туркестана, Х. Цейс подмечал мельчайшие детали и анализировал их с точки зрения расовой и социальной антропологии, гигиены, эпидемиологии и географии. Однако его попытки привить на российской почве медицинскую географию в ее германском понимании не увенчались успехом: советские ученые видели научный потенциал в экспериментальной эпидемиологии, а не в междисциплинарных проекциях проблем медицины и расовой патологии2. Поэтому созданием своего главного детища – геомедицины – он занялся уже после отъезда из СССР в начале 1930-х гг.
Остро стоявшая в 1920-е гг. проблема оздоровления нацменьшинств СССР привлекала внимание и других немецких ученых. Так, дерматолог из Бреслау М. Йесснер, возглавлявший германский состав совместной экспедиции 1928 г. по изучению эндемического сифилиса в Бурят-Монголии, отмечал, что у истоков интереса немецкой стороны к этой проблеме стоял известный психиатр К. Вильманс. Идея организации советско-германской экспедиции получила все- мерную поддержку Н.А. Семашко, А.В. Луначарского и В.М. Броннера3.
С 1923 г. в Бурят-Монголии активно развернулись процессы национального строительства. Доктрина распространения большевизма на «угнетенный Восток»4, постепенно сменившая идею мировой революции, стала очередной ступенью советской геополитики, включавшей в себя аспекты того, что в современном геополитическом лексиконе называется «мягкой силой». Агентами «мягкой силы» могли и должны были стать бурят-монголы новой советской генерации, а необходимыми предпосылками для этого являлись физическое и нравственное оздоровление и успешное идеологическое воспитание.
Между тем, в указанный период ситуация с социальными болезнями в Бурят-Монгольской АССР была действительно сложной. В докладе заместителя наркома здравоохранения БМАССР В.Н. Жинкина «К вопросу о распространении сифилиса в Бурятии» (1926 г.) указывалось, что в период с 1924 по 1925 г. люэс составил 25% всех инфекционных заболеваний по республике. По сравнению с другими сибирскими регионами (Новониколаевская губерния – 3,1–3,8%, Томская губерния – 8,3%; данные 1922–23 гг.), показатели Бурят-Монголии действительно выглядели неутешительно5. В этой ситуации организация совместной экспедиции, в которой в равной степени были заинтересованы германские и советские специалисты, могла стать стимулом для борьбы с социальными болезнями по всему СССР. Положительный пример избавления отдельно взятого народа от недуга, позиционировавшегося как «наследие царского режима», мог стать символом стремительной модернизации. При этом в русле большевистского дискурса особо выпуклой становилась роль новой власти, а успешные образы «новой генерации» бурят-монголов могли бы транслироваться через национальные границы в культурно, лингвистически и конфессионально родственные регионы «угнетенного Востока».
Советско-германская экспедиция
1928 г. по изучению сифилиса стала ярким практическим примером двустороннего сотрудничества в области медицины. Для реализации своих целей советское прави -тельство привлекло немецкую экспертную помощь, а немецким ученым предоставило возможность изучения феномена, практи -чески не встречавшегося к тому времени в Европе. Большое значение экспедиция имела и для работников Наркомздрава Бурят-Монгольской АССР. Во-первых, они получили бесценный опыт работы под руководством ученых мирового класса. Во - вторых, органам здравоохранения республики было передано оборудова ние экспедиции, включавшее новейшую рентгеновскую установку. И наконец, совместная работа медиков показала, что проблема сифилиса и других социальных болезней была вполне решаема при нали чии квалифицированного медперсонала и современных медикаментов.
Советско - германская экспедиция 1928 г. в Бурят-Монголию получила известность в СССР и за рубежом. Но она не была един ственным совместным предприятием. За годы сотрудничества были организо -ваны экспедиции в Поволжье и на Урал (1926—1927 гг.) для изучения трипаносо-моза, туберкулезная экспедиция 1927 г. в Киргизию, экспедиция по изучению зоба и т.д. Важно то, что на примере совмест-ных исследований Наркомздрав СССР начал организовывать и отправлять соб ственные экспедиции в отдаленные наци ональные регионы. Так, в 1929—1930 гг. в Бурят-Монголии работали экспедиция Государственного венерологического института, туберкулезная экспедиция, трахоматозный отряд и экспедиция по изучению состояния здоровья детей.
Таким образом, геополитическое значе ние советско германского медицинского сотрудничества 1920 х гг. прослеживается в нескольких проекциях. Прежде всего, сближаясь друг с другом на взаимовыгод ной основе, Советская Россия и Германия выразили своеобразный геополитический протест против Версальского миропорядка и свое стремление к свободной внешней политике и самостоятельному выбору партнеров. Играя на антагонизме боль -шевиков и Запада, германские круги про двигали собственные интересы в России, одновременно предлагая выгодные усло вия сотрудничества. При этом геополити-ческое взаимодействие имело сугубо праг матические цели. В области медицины они выразились в обмене экспертной и гуманитарной помощи, медицинских тех нологий, медикаментов и средств на воз можность проведения исследований на больших группах населения, пораженных инфекционными болезнями, апробации медицинских средств и расширения рынка сбыта медицинской продукции.
В период 1920 - х гг. немецкие и совет -ские медики создали собственное науч -ное пространство, где функционировали совместные научные коллективы, жур-налы, постоянные мероприятия; созда-вались группы, в которых происходил постоянный обмен научной информа цией; осуществлялись совместные про екты. Одновременно советско - германское медицинское сотрудничество являлось ареной борьбы интересов, скрытых замыс-лов, неформального лоббирования идей и продуктов. Там концентрировались зна-чительные денежные средства и пересека-лись финансовые потоки; туда стремились проникнуть третьи лица — конкурирую -щие иностранные организации. Научное осмысление транснационального контек ста советско- германского медицинского сотрудничества находится в самом начале и требует глубинного изучения огромного объема первоисточников и научной лите -ратуры.
Деятельность советских ученых по орга-низации экспедиций в СССР получила дальнейшее развитие. Быстро ассоцииро вав себя с достижениями мировой науки через сотрудничество с зарубежными коллегами и добившись собственных зна-чительных прорывов в деле организации здравоохранения, они нашли собствен ные «точки приложения усилий» в южном геополитически нестабильном пограни чье СССР. Это выразилось в оказании медико санитарной помощи Монголии, Афганистану, Синьцзяну и Ирану в 1930-х гг.1 В этом процессе не только использовался научно-практический задел совместных экспедиций предыду щего десятилетия, но и создавался незри мый форпост геополитического влияния СССР посредством пропаганды эффек тивности советской медицины и социа листического образа жизни среди наро дов Востока .