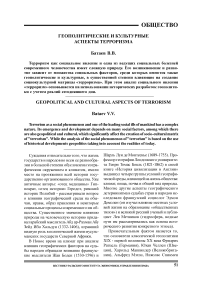Геополитические и культурные аспекты терроризма
Автор: Батаев В.В.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
Терроризм как социальное явление и одна из ведущих социальных болезней современного человечества имеет сложную природу. Его возникновение и развитие зависит от множества социальных факторов, среди которых имеются также геополитические и культурные, в существенной степени влияющие на создание социокультурной матрицы «терроризма». При этом анализ социального явления «терроризм» основывается на использовании исторических разработок геополитики с учетом реалий сегодняшнего дня.
Короткий адрес: https://sciup.org/14214629
IDR: 14214629
Текст научной статьи Геополитические и культурные аспекты терроризма
Терроризм как социальное явление и одна из ведущих социальных болезней современного человечества имеет сложную природу. Его возникновение и развитие зависит от множества социальных факторов, среди которых имеются также геополитические и культурные, в существенной степени влияющие на создание социокультурной матрицы «терроризма». При этом анализ социального явления «терроризм» основывается на использовании исторических разработок геополитики с учетом реалий сегодняшнего дня.
GEOPOLITICAL AND CULTURAL ASPECTS OF TERRORISM
Terrorism as a social phenomenon and one of the leading social ills of mankind has a complex nature. Its emergence and development depends on many social factors, among which there are also geopolitical and cultural, which significantly affect the creation of socio-cultural matrix of "terrorism". While the analysis of the social phenomenon of "terrorism" is based on the use of historical developments geopolitics taking into account the realities of today.
Суждения относительно того, что жизнь государств и народов во всем ее разнообразии в большой степени обусловлена географическим окружением и климатом, имели место на протяжении всей истории государственно организованного общества. Уже античные авторы: «отец медицины» Гиппократ, «отец истории» Геродот, римский историк Полибий - рассматривали вопрос о влиянии географической среды на обычаи, нравы, образ правления и некоторые социальные процессы современного им общества. Существенное значение влиянию природы на человеческую историю придавал арабский мыслитель Абд ар-Рахман Абу Зейд Ибн Хальдун (1332-1406), игравший видную роль в политической жизни мусульманских государств Северной Африки.
В Новое время на климат при анализе влияния географических факторов на судьбы народов обращали внимание французские мыслители Жан Боден (1530-1596) и
Шарль Луи де Монтескье (1689-1755). Профессор географии Лондонского университета Генри Томас Бокль (1821-1862) в своей книге «История цивилизации в Англии» выдвинул четыре группы условий географической среды, влияющей на жизнь общества: климат, пища, почва и общий вид природы. Многие другие аспекты географического детерминизма в судьбах стран и народов исследовали французский социолог Эдмон Демолен (он изучал влияние местных условий жизни на образование «общественных типов») и великий русский ученый и публицист Лев Мечников (гидросфера, водные пути им рассматривались как основа исторического развития конкретного этноса).
Примечательным фактом является то, что основатели классической геополитики XIX - первой половины ХХ века Фридрих Ратцель (Германия), Юхан Челлен (Швеция), Харольд Маккиндер (Великобритания), Альфред Мэхэн, Николас Спикмен
Батаев В.В.
(США) и Карл Хаусхофер (Германия) отводили центральное место в детерминации международной политики конкретного государства его геополитическому положению.
В частности, ими была предложена концепция планетарного дуализма – римленда (или «береговой зоны») и хартленда («сердца мира» - средоточия континентальных масс Евразии), «морских сил» против «континентальных сил», талассократии («власть посредством моря») против тел-лурократии («власть посредством земли»), которая в ХХ веке стала теоретической основой для обоснования противостояния политических сил мира. Они разработали критерии геополитических возможностей государств. Так, Альфред Мэхен выдвинул критерии оценки геополитического статуса государства:
-
1) «географическое положение государства», его открытость морям, возможность морских коммуникаций с другими странами; протяженность сухопутных границ и способность контролировать стратегически важные регионы; способность угрожать своим флотом территории противника;
-
2) «физическая конфигурация государства», то есть конфигурация морских побережий и количество портов, на них расположенных, - от этого зависит процветание торговли и стратегическая защищенность;
-
3) протяженность территории - она равна протяженности береговой линии;
-
4) статическое количество населения -оно важно для оценки способности государства строить корабли и их обслуживать;
-
5) национальный характер, т.е. способность народа к занятию торговлей, так как морская сила основывается на мирной и широкой торговле;
-
6) политический характер правления, от которого зависит переориентация лучших природных и человеческих ресурсов на создание морской силы [2].
В книгах «Стратегия Америки в мировой политике» (1942) и в созданной посмертно работе «География мира» (1944) Нико- лас Спикмен выделил критерии, на основе которых определяется геополитическое могущество государства:
-
1) поверхность территории;
-
2) природа границ;
-
3) объем населения;
-
4) наличие или отсутствие полезных ископаемых;
-
5) экономическое и технологическое развитие;
-
6) финансовая мощь;
-
7) этническая однородность;
-
8) уровень социальной интеграции;
-
9) политическая стабильность;
-
10) национальный дух.
Во второй половине ХХ века основные геополитические исследования были посвящены изучению влияния НТП на географическое и военно-стратегическое положение стран, которое изменилось в связи с появлением дальней бомбардировочной авиации, затем ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных лодок с неограниченным радиусом действия как важнейших средств его доставки.
Это привело к обесцениванию значения естественных барьеров, более не гарантирующих неуязвимость стран, удаленных от возможных театров военных действий, полной переоценке уязвимости районов внутри стран, повышению ценности океанического пространства и контролирующих его островов, «сжатию» пространства и времени, поскольку высокая скорость ракет оставляет вовлеченным в конфликт сторонам для принятия решений крайне ограниченный временной период.
Распад нашей страны (Советского Союза) привел к необходимости переосмысления реалий мира и выдвижению новых теоретических концепций, которые бы смогли спрогнозировать функционирование человечества в XXI веке. Как отмечал Збигнев Бжезинский в книге «Великая шахматная доска»: «Сегодня геополитический вопрос более не сводится к тому, какая гео- графическая часть Евразии является отправной точкой для господства над континентом, или к тому, что важнее: власть на суше или власть на море. Геополитика продвинулась от регионального мышления к глобальному» [1].
Одну из концепций нового видения мира в эпоху глобализма сформулировал профессор политологии в Университете Дж. Мэйсона Фрэнсис Фукуяма в своей статье «Конец истории?». Его концепция конца истории и единого мира базируется на утверждении того, что все формы геополитической дифференциации: культурные, национальные, религиозные, идеологические, государственные – вот-вот будут окончательно преодолены, и наступит эра единой общечеловеческой цивилизации, основанной на принципах либеральной демократии. История закончится вместе с геополитическим противостоянием, давшим изначально главный импульс истории. Вместе с тем он отмечал, что « сохранится высокий и даже все возрастающий уровень насилия на этнической и национальной почве, поскольку эти импульсы не исчерпают себя и в постисторическом мире. Палестинцы и курды, сикхи и тамилы, ирландские католики и валлийцы, армяне и азербайджанцы будут копить и лелеять свои обиды. Из этого следует, что на повестке дня останутся и терроризм, и национально-освободительные войны » [4].
Культурологический подход занимает важное место в научных изысканиях в области геополитики. Но особенно интерес к проблеме культурных факторов в мировой политике возрос после окончания холодной войны. Культура как специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе, обладает как цивилизационной, так и национально-государственной спецификой. Учет культурного фактора заставляет обращать внимание не на черты сходства между отдельными ситуациями, а на уникальные особенности каждой из них, что особенно важно в настоящем столетии.
Поэтому если раньше геополитику определяли как « направление, изучающее взаимозависимость внешней политики государств, международных отношений и системы политических, экономических, экологических, военно-стратегических и иных взаимосвязей, обусловленных географическим положением страны (региона) и другими физико- и экономико-географическими факторами » [3], то сегодня можно вести речь о геокультурполитике, где смыслообразующим основанием выступает культура, которая, в соответствии с мыслями Н. Данилевского, О. Шпенглера, П. Сорокина и А. Тойнби, имеет связь с географической составляющей . Ибо « сегодня гораздо уместнее группировать страны, основываясь не на их политических или экономических системах, не по уровню экономического развития, а исходя из культурных и цивилизационных критериев » [6].
Терроризм уже в большей или меньшей степени является частью истории различных народов, стран, цивилизаций, при этом он врастает в их культуру, т.е., как отмечает Б. Дженкинс, « террористическая субкультура может стать постоянной чертой нашего мира » [9]. Эта субкультура, как нам представляется, носит энтропийный, разрушительный характер как для личности террориста, так и для любой культуры, представителем которой он является. В ее основе лежит деструктивность, которая представляет собой результат ущемлений и искажений в итоге жизни. Но при этом, к сожалению, терроризм является реальностью настоящего дня.
Основными характеристиками современного терроризма ныне являются глобализация, международная направленность, политическая многоликость и динамизм в
Батаев В.В.
изменении внешнего облика. Глобальный характер терроризма проявляется как по охвату стран (а он имеет место в большинстве стран), где функционируют террористические организации, так и по последствиям его деятельности для человечества, которые проявляются во всех сферах бытия человека: политической, экономической, социальной и духовной.
Говоря о геокультурном измерении терроризма, нельзя обойти вопрос о его связи с войной. Война была и остается неистребимым элементом мирового сообщества и во многом творцом нашей цивилизации. Еще Иммануил Кант говорил, что история в целом никоим образом не свидетельствует о человеческой мудрости, скорее, она летопись человеческого несовершенства, безумия, тщеславия и порока. Это наиболее явно проявляется в войнах, которые вело человечество на протяжении всей своей истории. Век ХХI также не обходится без войн. В то же время к классическим войнам сегодня добавились войны, которые Мадлен Олбрайт назвала войнами будущего – войны террористов и с террористами.
Полковник русской императорской армии Евгений Эдуардович Месснер (18911974) в книге «Мятеж – имя Третьей Всемирной» (впервые издана в 1960 г. в Буэнос-Айресе) сформулировал концепцию мятеже-войны. Он подчеркивал, что и ведение войны, и ведение мятежа является искусством, а сейчас же возникает новое искусство – ведение мятежевойны. Стратег стоит перед трудным выбором целей действия. В мяте-жевойне выбор труден вследствие обилия целей и различия удельного их веса. Месснер устанавливает иерархию целей :
-
1) развал морали вражеского народа;
-
2) разгром его активной части (элиты, воинства, партизанства);
-
3) захват или уничтожение объектов психологической ценности;
-
4) захват или уничтожение объектов материальной ценности;
-
5) эффекты внешнего порядка ради при-
- обретения новых союзников, потрясение духа союзников врага. Суть мятежевойны, с точки зрения Месснера, в том, что она – еретическая война, и воевать в ней будут еретически, пока война не отделится от мятежа [7].
Террористы на практике подтверждают и претворяют в жизнь положения Евгения Месснера. При этом если есть формальные правила ведения обычной войны, то нет никаких правил в ведении террористической войны. Плюс к тому человечество создало столько техногенных объектов, что их разрушение может иметь такие же последствия, что и применение ОМП. Речь идет об атомных электростанциях, химических предприятиях, гидросооружениях и т.п.
Поэтому российские военные специалисты В. Цыгичко и А. Пионтковский, проанализировав возможные вызовы национальной безопасности России в ХХI веке, констатировали: «Современный демократический, сытый, гедонистски ориентированный, постиндустриальный, обладающий чрезвычайно уязвимой инфраструктурой Запад не представляет военной угрозы для Российской Федерации, которая имеет все возможности нанести недопустимый ущерб странам альянса в случае его агрессии» [5]. Величина этого недопустимого ущерба ими определяется как 10% потерь от численности группировки в районе конфликта и ущерб инфраструктуре страны в размере 5% от ВВП. Т.е., по мысли авторов, реально действует тенденция ассимет-ричной национальной безопасности. Значит, небольшое государство или социальная группировка может нанести крупной стране (на наш взгляд, прежде всего стране либерального типа развития) непоправимый ущерб, защититься от которого невозможно, из-за двух факторов:
-
1) опережающего развития средств нападения по отношению к средствам защиты;
-
2) торжества в западном обществе идей толерантности и политкорректности.
Геокультурное измерение терроризма требует анализа проблем этноса и цивилизации. В современном мире взаимодействие между странами и народами разных цивилизаций усиливается. Но это диалектически ведет к росту цивилизационного самосознания, к культурному и в особенности к религиозному самообособлению. Западными учеными и государственными деятелями в рамках современного мира обосновывается опасность агрессии прежде всего со стороны сторонников ислама в отношении Западного мира и его идеалов: политкорректности, толерантности, вседозволенности, разумного эгоизма.
Именно это в достаточно жесткой форме в работе «Современный ислам: в поисках собственной культурной индивидуальности» отмечает американский ученый Густав фон Грюнебаум , указывая на исторические корни противоборства либеральной и мусульманской цивилизаций [8].
Данная оценка имеется в виду при гео-культурном анализе современного мира и месте в нем терроризма. Устойчивые представления ислама о коллективной умме – всей совокупности верующих – и единой территории, которые рассматриваются как общее достояние, сегодня используются исламскими фундаменталистскими организациями. Поэтому проблемы Палестины и Южного Кавказа, Сирии и Ирака, проблемы секуляризации, сексуальной свободы становятся проблемой всех мусульман. А мусульманские террористические организации при этом просто наиболее активно и жестко действуют против всех существующих организаций либерального типа и их сторонников.
На наш взгляд, цивилизационные и культурные различия в современном мире не только сохранились, они продолжают нарастать. Это многообразие и различие культур народов/наций делают жизнь на нашей планете, с одной стороны, прекраснее и богаче, но с другой – оно же является источником опасностей, источником обид и притеснений власть имущих в отношении всех остальных, а соответственно, и источником, катализатором терроризма в современном мире. Значит, наш мир одновременно стал (этот процесс продолжается) и более богатым, и более опасным. С этим нам надо считаться и играть по правилам этого мира!
Список литературы Геополитические и культурные аспекты терроризма
- Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его внешнеполитические императивы. М.: Междунар. отношения, 2000. С. 53.
- Мэхен А.Т. Влияние морской силы на французскую революцию и империю (17931812). Т. I-II. М. -Л.: Военмориздат, 1940.
- Тихонравов Ю.В. Геополитика: Учебное пособие. М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. С. 22.
- Фукуяма Ф. Конец истории?//Вопросы философии. 1990. № 3. С. 33.
- Цыгичко В.И. Пионтковский А.А. Возможные вызовы национальной безопасности России в начале XXI века//Военная мысль. 2001. № 2. С. 66.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?//Полис. 1994. №1. С. 35.
- Месснер Е.А. Всемирная мятежевойна. М.: Кучково поле, 2004.
- Grunebaum von G.E. The Search for Cultural Identity. N.Y., 1962. P. 40.
- Terrorism: Theory and Practice. Boulder (Col.), 1979. P. 39.