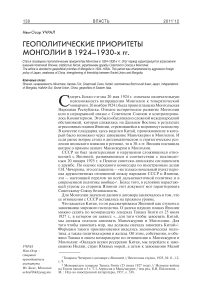Геополитические приоритеты Монголии в 1924-1930-х гг
Бесплатный доступ
Статья посвящена геополитическим приоритетам Монголии в 1924-1930-х гг. Этот период характеризуется агрессивной внешней политикой Японии, слабостью Китая, укреплением дружбы Советского Союза и Монголии.
Япония, независимость монголии, халхин-гол, советский союз, китай, геополитика восточной азии
Короткий адрес: https://sciup.org/170165666
IDR: 170165666
Текст научной статьи Геополитические приоритеты Монголии в 1924-1930-х гг
С мерть Богдо-гэгэна 20 мая 1924 г. означала окончательную невозможность возвращения Монголии к теократической монархии. 26 ноября 1924 г. была провозглашена Монгольская Народная Республика. Отныне историческое развитие Монголии шло в неразрывной связке с Советским Союзом и контролирова-лось Коминтерном. Это было обусловлено сложной международной обстановкой, которая сложилась на Дальнем Востоке в результате агрессивных планов Японии, стремившейся к мировому господству. В качестве плацдарма здесь виделся Китай, проникновение в кото -рый было возможно через завоевание Маньчжурии и Монголии. И если ранее вопрос стоял о дипломатическом и стратегическом уси лении японского влияния в регионе, то в 30-х гг. Япония поставила вопрос о прямом захвате Маньчжурии и Монголии.
СССР не был заинтересован в нарушении сложившихся отно шений с Японией, развивавшихся в соответствии с подписан ным 20 января 1925 г. в Пекине советско - японским соглашением о дружбе. По оценке народного комиссара по иностранным делам Г.И. Чичерина, это соглашение — «не только начальный пункт пери -ода дружественных отношений между народами СССР и Японии, это — настоящий перелом во всей дальневосточной политике и в современной политике вообще»1. Более того, в условиях нарастаю -щей угрозы со стороны Японии этот документ мог гарантировать Советскому Союзу безопасность.
Для Монголии значение данного договора заключалось в том, что ее отношения с СССР оставались на прежнем уровне.
УЧРАЛ
Ням-Осор – старший преподаватель института
Что касается Китая, то он рассматривался Японией как ступень к завоеванию мирового господства. О далеко идущих планах Японии можно судить по меморандуму генерала Танака Гиити от 25 июля 1927 г., в котором он заявил: «...для того чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Для того чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай»2. Формами такого проникновения виделись экономическая поли -тика, а также политика крови и железа. Об этом, собственно, и объ-явил Танака в своем меморандуме по отношению к Маньчжурии и Монголии: «Овладев всеми ресурсами Китая, мы перейдем к заво еванию Индии, стран Южных морей, а затем к завоеванию Малой
Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы»1. Согласно этому заявлению, у японского правительства был конкрет -ный план проникновения в Монголию и Маньчжурию.
Экономическое проникновение в Маньчжурию японцы осуществляли по -средством своих многочисленных желез -ных дорог, расположенных на террито рии Маньчжурии. И если ранее японцев интересовала исключительно Южная Маньчжурия, способная удовлетворять их экономические потребности, то с появле нием территориальных претензий на всю Азию перед японцами встала цель про никнуть в Северную Маньчжурию. Так, из заявления генерала Танака следует, что «эта линия [Чанчунь-Таонаньская железная дорога] имеет огромное эко -номическое значение... Имея в руках эту дорогу, мы сможем овладеть богатствами Северной Маньчжурии и Монголии»2.
Захватив Северную Маньчжурию, японцы осуществили бы стратегиче скую цель — проникли в Монголию и Российскую Сибирь, а потом и в Китай. Интересы японского правительства в отношении этих территорий обозначились еще в годы Гражданской войны в России. Не случайно, что именно в тот момент на территории Дальнего Востока, Бурятии и Забайкалья возникла Дальневосточная республика (6 апреля 1920 г. — ноябрь 1922 г.), которая была временным государственным образованием, созданным с целью защиты России с Востока и лик видации интервенции японцев мирным путем. В подтверждение стоит привести слова В.И. Ленина: «...обстоятельства принудили к созданию буферного государства — в виде Дальневосточной респу-блики <...> вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обой тись без нее»3.
Очевидно, что политические размышле-ния японского правительства велись в рам -ках теории паназиатства, основы которой возникли в начале XX в. В 30-х гг. разви-тие теории продолжилось в деятельности японского идеолога Миядзаки Масаеси, который делал акцент на необходимости создания «обширной сферы сопроцве тания» под эгидой Японии: «Восточная сфера процветания — обширная авто -номная зона обеспечения безопасности Японии и снабжения ее необходимыми материальными ресурсами — должна была включать Северный Сахалин и Курилы на севере, Восточную Сибирь, Маньчжурию, Внутреннюю и Внешнюю Монголию, Китай и Тибет на западе, Голландскую Индию на юге и океан до Гавайских остро -вов на востоке»4. Японское правительство вело достаточно хитрую политику, стре мясь завуалировать свою деятельность в Маньчжурии. Согласно заявлениям императорского правительства, японцы преследовали цель мирной деятельности в Маньчжурии, которая предполагала «уважение целостности китайской тер ритории; уважение интересов империи в Маньчжурии»5.
В отношении Монголии складыва-лась аналогичная ситуация. Японское правительство манипулировало лозунгами монгольской независимости. Так, еще в начале 20 х гг. «по сообщению газеты “Дальневосточная Республика” в Пекине была перехвачена телеграмма японского посла, которая указывала, что японцы просят токийскую администрацию вру чить генералу Сюй 3 млн йен для создания независимого государства в Монголии и для вооружения последней японским оружием»6.
В связи с этим интересна оценка дея тельности Японии российским прави тельством. В информационном бюллетене отдела Дальневосточного секретариата Коминтерна за 1920 г. указывалось, что японцы в тот момент стремились «тактику открытого наступления на Монголию заменить тактикой мирной “дипломати - ческой” агрессивности»1. Впоследствии эта тактика отошла на второй план.
4 августа 1931 г. на инструктивном сове -щании командиров дивизий военный министр Японии Минами поднял во -прос о Маньчжурии и Монголии, недвус-мысленно заявив о необходимости раз -решить его вооруженной силой. Вскоре Квантунская армия развернула активное наступление на Маньчжурию. Военные действия завершились подписанием 15 сентября 1932 г. японо - маньчжурского протокола. В документе подтверждался факт «образования независимого госу-дарства Маньчжоу-Го, созданного в соот-ветствии со свободным волеизъявлением народа»2. Население этого искусственно созданного государства состояло из мань чжуров, китайцев и монголов. По данным журнала «Япония сегодня», «в начале 40 -х гг. общая численность населения составляла 43,2 миллиона»3. Фактически Маньчжоу Го контролировалось Японией и целиком следовало в русле ее политики. В 1939 г. вооруженные силы Маньчжоу Го принимали активное участие в войне на р. Халхин-Гол.
Создание Маньчжоу- Го означало начало нового витка агрессии японцев в отноше нии Китая. На заседании Лиги Наций 24 февраля 1933 г. была принята резолюция о японо китайском конфликте, согласно которой предлагалось создать специаль ный комитет из девятнадцати государств для разработки механизма урегулирования японо- китайского инцидента. Это пред -ложение не нашло поддержки у японского правительства, и 27 марта 1933 г. Япония вышла из Лиги Наций. В императорском эдикте указывалось: «Мы полагаем, что уважение нашей империей независимости нового государства Маньчжоу Го и содей ствие его здоровому развитию способ ствуют искоренению причины бедствий в Восточной Азии и закладывают основу сохранения мира во всем мире. К несча стью, мнение Лиги расходится с нашим мнением»4. С этого момента не осталось сомнений в агрессивных намерениях японского правительства.
В историографии события 1931-32 гг. получили название маньчжурского инци дента. Они четко обозначили агрессив -ность политических намерений Японии на Дальнем Востоке.
В итоге в конце 30-х гг. возникла реаль -ная угроза военного вторжения Японии в Монголию. В сложившейся обстановке у МНР не оставалось другого выхода, кроме как рассчитывать на помощь Советского Союза. Со ссылкой на архивные источ-ники С.Г Лузянин указал, что «в октябре-ноябре 1934 г. состоялся официальный визит председателя Монгольской народно революционной партии П. Гэндэна в СССР. <___> Гэндэн <___> сделал предло -жение о заключении договора о взаимной помощи и поддержке в связи с японской угрозой»5. Такое соглашение было заклю-чено в устной форме. Стороны догово-рились в случае нападения оказать друг другу помощь, в т.ч. и военную. 12 марта 1936 г. между СССР и МНР был подпи-сан Протокол о взаимопомощи, согласно которому стороны обязались «в случае нападения на одну из договаривающихся сторон оказать друг другу всяческую, в том числе и военную помощь»6.
Китайское правительство негативно отнеслось к международному документу, посчитав его нарушением китайско советского соглашения от 31 мая 1924 г. Менее чем через месяц министр иностран ных дел Китая Чжан Цюнь представил российскому правительству ноту, в кото рой отметил, что протокол есть «наруше ние суверенитета Китая... Правительство ни при каких обстоятельствах не может признать такой протокол и никаким обра зом с ним не связано»7.
Для Японии 1934-1936 гг. стали време- нем дипломатической борьбы. В январе 1935 г. японское правительство в лице министра иностранных дел Хирота в очередной раз обозначило свои позиции в отношении Китая, заявив, что в его «политическом положении <...> все еще таятся многие серьезные возможности»1. В результате в 1937 г. японцы вторглись в Китай. В обострившейся международной обстановке СССР не замедлил поддержать Китай. 21 августа 1937 г. в Москве между СССР и Китаем был подписан договор о ненападении. Советско китайские отно шения определили два вектора развития. Во первых, были организованы поставки в Китай военной техники (по данным В.Л. Телицына, «с ноября 1937 по ноябрь 1939 года в Китай было поставлено свыше 800 самолетов, <...> 200 тысяч винтовок, <...> 1233 автомашины <...> и другое»2). Во - вторых, Советский Союз стал оказы -вать политическую поддержку Китаю на международной арене, в первую очередь в Лиге Наций.
В результате претензии Японии в отно -шении Китая автоматически распростра нились и на Советский Союз. К концу 30 х гг. участились пограничные столкно вения японцев с вооруженными силами МНР и СССР. Среди самых значитель ных — конфликты у оз. Хасан в 1938 г. и на р. Халхин- Гол в 1939 г.
Битва на Халхин-Голе стала высшей точкой восточноазиатского противостоя ния в предвоенные годы. Она показала несостоятельность стремления получить геополитические преимущества в слож ном механизме социально политического взаимодействия в этом обширном регионе с помощью военной силы. Такой демогра фический гигант, как Китай, с ярко выра женной этнонациональной доминантой и своеобразной идеологией, основанной на глубинной культурно исторической традиции, способен выступить в каче стве надежного стабилизатора проблемы. Несмотря на то, что в первой четверти
ХХ в. проявился ирредентизм монголь ских и маньчжурских этнических сооб ществ, общая стабилизация политической обстановки в стране привела к усилению государственных национальных тен денций и формированию независимого сообщества. Завершающий этап Халхин-голского противостояния только усилил действия национальной суверенизации и формирование настроений в пользу созда ния сильного самостоятельного государ ства на новой социальной основе.
Таким образом, изучаемый период характеризуется для Монголии слож ной внешнеполитической обстанов кой. Агрессивная внешняя политика Японии привела к сложному перепле тению интересов Китая, Советского Союза и Монголии. Для Японии дости-жение мирового господства не представ лялось возможным без захвата Китая — крупнейшей державы Восточной Азии. Плацдармом проникновения в Китай, как и ранее, выступала Маньчжурия. Только теперь японцев интересовала не только Южная, но и Северная Маньчжурия. В результате войны с Китаем в 1932 г. было создано искусственное государ ственное образова ние Маньч жоу Го. Соседствующее положение с Монголией, а также отсутствие четкой границы между государствами помогли японцам спрово цировать конфликт с МНР. В результате для Монголии вопрос о независимости перешел в практическую плоскость: воз -никла угроза военного вторжения япон цев. В это время СССР продолжал играть для монголов роль «старшего партнера» и таким образом был втянут в конфликт с Японией. Пик событий пришелся на конец 30 х гг. В результате победы совет ских войск в военных столкновениях с японцами у оз. Хасан и на р. Халхин Гол Монголии удалось избежать захвата со стороны Японии. Для дела монголь ской независимости та кое положение было выгодным, поскольку в преддверии Второй мировой войны Монголия оказа лась в защищенном положении. Но вме сте с тем развитие событий 30 х гг. позво лило советскому правительству еще более усилить свои позиции в Монгольской Народной Республике.