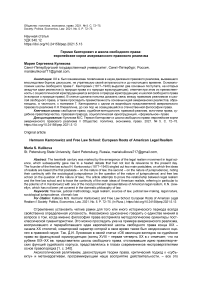Герман Канторович и школа свободного права: европейские корни американского правового реализма
Автор: Куликова Мария Сергеевна
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
ХХ в. был ознаменован появлением в науке движения правового реализма, вызвавшего впоследствии бурную дискуссию, не утратившую своей актуальности и до настоящего времени. Основоположник школы свободного права Г. Канторович (1877-1940) выделял два основных постулата, на которых зиждутся идеи реалистов (о природе права и о природе юриспруденции), отмечая при этом их преемственность с социологической юриспруденцией (в вопросе о природе юриспруденции) и школой свободного права (в вопросе о природе права). В статье сделана попытка доказать связь между правовым реализмом и школой свободного права, а также проследить преемственность основных идей американских реалистов, обратившись, в частности, к полемике Г. Канторовича с одним из виднейших представителей американского правового реализма К.Н Ллевеллина, до сих пор не освещавшейся в отечественной философии права.
Свободное право, судебная методология, правовой реализм, источники права, судебное правотворчество, правовая природа, социологическая юриспруденция, «формальное» право
Короткий адрес: https://sciup.org/149132644
IDR: 149132644 | УДК: 340.12 | DOI: 10.24158/pep.2021.5.13
Текст научной статьи Герман Канторович и школа свободного права: европейские корни американского правового реализма
Стремлению установить четкие рамки для того или иного исторического периода всегда свойственна определенная условность. Невозможно однозначно говорить о единстве мнений в вопросе о том, когда именно философия права восприняла методологические ориентиры постклассической гуманитаристики. Это можно проследить уже на примере американского реализма, воспринявшего и переработавшего идеи европейской школы свободного права конца XIX – начала XX столетий, новаторский характер которой в свое время также был неоднозначно оценен в правовой науке. Так, Д.И. Луковская в своей статье «Об эволюции взглядов на судейское право во французской юриспруденции (конец XVIII – первая четверть XX в.» отмечает, что на рубеже XIX–XX вв. представители школы свободного права, отстаивавшие идею правотворческих функций судейского корпуса, представлялись в глазах современников ниспровергателями основ правопорядка [1, с. 240].
Аксиологический релятивизм, деконструкция теории права, критический подход к «субъекту» и метанарративам, программирующим наше восприятие действительности, – все это черты, имплицитно присущие правовому реализму, в том числе и теоретическим построениям таких его представителей, как, например, К.Н. Ллевеллин, которых принято относить к умеренным реалистам. Вообще нельзя не учитывать, что это была не некая единая методологическая платформа. Сами представители правового реализма не всегда готовы были признать его самостоятельной, отдельной «школой» или даже единым «движением», подчас сомневаясь в возможности считать свои идеи выражающими концепции правового реализма. Как объяснял в своей работе «Являются ли судьи людьми?» Дж. Фрэнк, критикуя понимание правового реализма, содержащееся в трудах К.Н. Ллевеллина и Н.Р. Паунда, с тем же успехом Платона и Аристотеля можно было бы назвать «реалистами» в логике, как «идеалистом» (Платона) и «реалистом» (Аристотеля) в метафизике. Поэтому Дж. Фрэнк предлагал более корректное, с его точки зрения, именование данному явлению в науке, а именно: «конструктивный скептицизм», «правовой актуализм», «правовая наблюдательность», «правовой дескрипционализм», «правовой прагматизм» или даже «юридическая скромность/сдержанность» [2, р. 258].
Нельзя отрицать смелость взглядов правовых реалистов, благодаря которой они смогли завоевать особое место в правовой науке и, несомненно, повлиять на ее дальнейшее развитие. В своей монографии «Реконструкция американского правового реализма и переосмысление теории частного права» (2013) Ханох Даган отмечает, что реализм на сегодняшний день продолжает быть уникален и важен для юридической мысли: «Вопреки некоторым своим карикатурам, правовой реализм не отождествляется с номинализмом - заклятым врагом верховенства права, поскольку на самом деле он предлагает жизнеспособное, поистине привлекательное понимание идеи верховенства права и, следовательно, гарантии свободы, автономии закона. Я надеюсь, что важность правового реализма подтвердится на практике и, таким образом, оправдает его возрождение в качестве основы для американского правового дискурса» [3, р. 223].
Но были ли реалисты первооткрывателями? Этот вопрос уже поднимался в науке. О тесной взаимосвязи, а точнее, о влиянии немецких юристов на формирование идей американских правоведов писали, в частности, в своей работе «Влияние Рудольфа фон Иеринга на Карла Ллевеллина» Ю.Е. Грайс, М. Гелтер и Р. Витман [4, р. 113-114]. Однако их исследование в большей степени затрагивает формальный аспект вопроса, чем содержательный. К примеру, авторы подмечают, что Джон Чипман Грей, известный представитель американского реализма, процитировал в своей знаменитой работе «Природа и источники права» (1909) Савиньи и Иеринга 24 раза.
С содержательной стороны эту проблему рассматривал Г. Канторович, не умаляя при этом заслуг реалистов. С некоторыми из них у него была тесная дружба. Подтверждением этого факта может служить сохранившаяся переписка Г. Канторовича с К.Н. Ллевеллином, которая на сегодняшний день частично хранится в библиотеке Чикагского университета (письма К.Н. Ллевеллина), а частично - в библиотеке Фрайбургского университета (письма Г. Канторовича) [5, р. 267]. В своей статье «Немного рационального о реализме» (1934), изданной в ответ на статью К.Н. Ллевеллина «Немного реального о реализме» (1931), Г. Канторович писал, что реалисты, перенимая идеи, разработанные представителями социологического подхода к праву (Эрлихом, Хеком, Хедеманном, Нуссбаумом, «величайшим социологом» Максом Вебером) и сторонниками школы свободного права (Жени, Эрлихом, Фуксом, Колером, Майером, Радбрухом, Штернбергом и Цительманном), вместе с тем «преувеличили истину», к которой стремились европейцы.
Со свойственной Г. Канторовичу четкостью, порой доходящей до математически выверенной строгости, он выделил два постулата, с которыми, как он полагает, вынуждены были бы согласиться сторонники правового реализма, во всяком случае, большинство из них. Это прежде всего «материально-правовой постулат», связанный с правовой природой права и заключающийся в том, что, по мнению радикально настроенных реалистов, право перестало восприниматься как непреложный свод правил и трансформировалось в свод фактов. Согласно же «формально-правовому постулату» реалистов, отражающему природу правовой науки, юриспруденция является не рационалистической, а эмпирической отраслью научного знания [6, р. 1240]. Рассматривая последовательно каждый из приведенных тезисов, Г. Канторович провел параллели, обнаружил сходство правового реализма с идеями представителей таких европейских направлений, как социологическая школа права и школа свободного права, отмечая неориги-нальность «реалистической» мысли.
Так, подход к праву как к своду не правил, а фактов был характерен еще для доктрины источников свободного права. Анализируя принятие судьей решения в случае пробела в законе, европейские юристы этих направлений утверждали, что он, во-первых, должен руководствоваться исключительно правом, а во-вторых, правилами, имеющими общеобязательный характер. В противном случае нарушался бы принцип равенства всех перед законом (правом). На основании этих двух предпосылок судья и должен заполнить имеющийся пробел: с одной стороны, с опорой на «формальное» право, содержащее в системе источников также и прецеденты, а с другой стороны – с опорой на «свободное» право, которое всегда будет пребывать в «переходном состоянии», как, к примеру, законопроекты, общеправовые принципы, внутренние убеждения или эмоциональные предпочтения, не предназначенные для того, чтобы быть зафиксированными в качестве «формального» права.
Действуя в рамках своей дискреции, судьи таким образом создают новый закон, играя роль факультативного законодателя, хотя при этом вовсе не ставят своей целью дискредитацию основного законодателя в качестве суверена. Как утверждали сторонники школы свободного права, такое «созданное судьями право» имеет сферу действия гораздо меньшую, чем «формальное» право, а иногда и равную нулю. Однако практическая значимость таких решений признавалась гораздо большей, поскольку там, «где “формальное” право ясно и полно, судебное разбирательство вряд ли возникнет» [7, р. 1241]. Г. Канторович отмечал, что тезис о допущении среди источников права «свободного» права был воспринят реалистами, но явно «преувеличен теми из них, которые говорят нам о том, что право состоит только из судебных решений и, таким образом, из фактов» [8]. Критикуя такой подход реалистов, Г. Канторович приводит аналогию с процедурой, касающейся коллегии присяжных заседателей, которая применялась в США. Согласно этой процедуре судья перед удалением присяжных заседателей в совещательную комнату всегда должен был сказать им напутственное слово, а также представить для разрешения присяжным исключительно вопросы факта, оставляя за собой иную часть приговора, а именно решение по вопросам права. Как пишет Г. Канторович, уже по этой причине теория, игнорирующая такое различие, т. е. называющая «правом» только фактическое поведение, изначально терпит крах [9, р. 1244].
Применительно ко второму постулату следует отметить позицию представителей социологической школы права, которые утверждали, что закон необходимо интерпретировать в непременной взаимосвязи с целями, способствующими его принятию, и таким образом делали вывод о немыслимости существования юриспруденции без анализа социальной реальности. Данная идея впоследствии была истолкована реалистами в более радикальном варианте, который отражен во втором ключевом тезисе этого направления, а именно в признании юриспруденции исключительно эмпирической наукой.
Таким образом, на примере двух фундаментальных установок, лежащих в основе правового американского реализма, можно проследить когнитивные истоки, зародившиеся в Европе и выразившиеся в работах представителей немецкой правовой мысли. Однако, несмотря на явную преемственность, на сегодняшний день не всегда четко обозначаемую в работах, посвященных правовому реализму, Г. Канторович все же отмечал самостоятельность реалистического движения, которая заключалась в том, что юристы общего права не просто переняли европейские идеи, но и развили их, а главное – применили на практике. В частности, он писал: «Европейцы только настраивали свои инструменты, тогда как реалисты сыграли на них. Даже их преувеличения благотворно сказались на движении, наделавшем столько шума, что, возможно, было даже необходимо для того, чтобы привлечь всеобщее внимание» [10, р. 1252]. Вместе с тем, предостерегая от применения неразумной, с его точки зрения, методологии, Г. Канторович одновременно выражал надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество американских и европейских юристов в целях построения юриспруденции будущего.
Список литературы Герман Канторович и школа свободного права: европейские корни американского правового реализма
- Луковская Д.И. Об эволюции взглядов на судейское право во французской юриспруденции (конец XVIII - первая четверть ХХ в.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2014. № 4 (315). С. 237-250.
- Frank J. Are Judges Human? Part Two: As through a Class Darkly // University of Pennsylvania Law Review and American Law Register. 1931. Vol. 80, iss. 2. P. 233-267. DOI: 10.2307/3308599
- Dagan H. Reconstructing American Legal Realism & Rethinking Private Law Theory. N.Y., 2013. 508 р. :oso/9780199890699.001.0001. DOI: 10.1093/acprof
- Grise J. E., Gelter M., Whitman R. The Influence of Rudolf von Jhering on Karl Llewellyn // FLASH: The Fordham Law Archive of Scholarship and History. N.Y., 2012. P. 96-116.
- Augsberg I., Lettmaier S., Meyer-Pritzl R. Hermann Kantorowicz' Begriff des Rechts und der Rechtswissenschaft. Tübingen, 2020. 290 p. DOI: 10.1628/978-3-16-159799-2
- Kantorowicz H. Some Rationalism about Realism // Yale Law Journal. 1934. Vol. 43, iss. 8. P. 1240-1253. DOI: 10.2307/791529