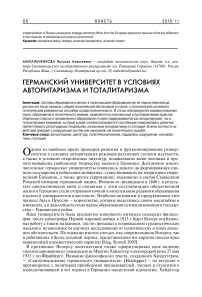Германский университет в условиях авторитаризма и тоталитаризма
Автор: Михальченкова Наталья Алексеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 11, 2016 года.
Бесплатный доступ
Система образования в целом, а также высшее образование как ее подсистема всегда достаточно тесно связаны с общей политической обстановкой в стране, с политической системой и политическим режимом как способом осуществления власти. В статье анализируются взаимоотношения науки, образования и политического режима, выявляется их комплексный и противоречивый характер. Отдельные отрасли и направления в образовании и науке поддерживаются как авторитарными, так и тоталитарными режимами, которые в ряде случаев оказываются способными стимулировать развитие, препятствовать ретроградным тенденциям, излишнему консерватизму и стагнации. В ином контексте их действия приводят к разрушению систем или нанесению им значительного ущерба.
Авторитаризм, диктатура, политический режим, поддержка, разрушение, консерватизм, стагнация
Короткий адрес: https://sciup.org/170168229
IDR: 170168229
Текст научной статьи Германский университет в условиях авторитаризма и тоталитаризма
О дним из наиболее ярких примеров развития и функционирования университетов в условиях авторитарных режимов различной степени жесткости, а также в условиях откровенных диктатур, подавлявших волю человека и препятствовавших свободному творчеству, является Германия. Достаточно многочисленные германские университеты появились задолго до формирования единого государства в небольших монархиях, существовавших на территории современной Германии, а также других территориях, входивших в состав Священной Римской империи германской нации. Именно ее ликвидация в 1806 г. в результате наполеоновских войн и связанная с этим секуляризация общественной жизни в Германии стали отправной точкой в интенсивном развитии образования в целом и университетов в частности. Наиболее активным и продуктивным этот процесс был в Пруссии – королевстве, которое выделялось своим масштабом и влиянием, а в дальнейшем стало ядром образования централизованного государства – Германского рейха.
Идея университета была предметом живейшего интереса немецких философов: после катастрофы Первой мировой войны в 1923 г. Карл Ясперс опубликовал работу с таким названием, где он призывал к возрождению гуманистических идеалов и независимости научных исследований от политических и иных внешних обстоятельств. По оценкам многих ученых, как современников Ясперса, так и работавших в более поздний период, представленная им картина носила ярко выраженный идеалистический характер [Sieg, Korsch 2005].
В противовес Ясперсу десятилетием позже сформулировал свое видение «политизированного» университета Мартин Хайдеггер в ректорской речи 27 мая 1933 г. во Фрайбурге. Название философского текста, созданного Хайдеггером, – «Самоутверждение германского университета» [Heidegger] – не вступает в противоречие с политикой приобщения преподавателей, ученых и студентов к господствовавшей в тот период в Германии нацистской идеологии. Хайдеггер выступил за создание «боевого союза преподавателей и студентов» и адаптацию университетов к «народной сущности» фюрерского принципа. В своем понимании духа философ подчеркивал его национальный характер, противопоставляя его «пустому остроумию» и иным проявлениям, которые обычно приписывались нацистами «еврейскому мышлению», что придавало речи Хайдеггера хотя и завуалированный, но антисемитский характер.
После поражения нацизма концепция «народного университета» канула в Лету, однако радикальное обновление германского университета не произошло. Была возрождена традиция, существовавшая до 1933 г. В этот период наиболее четко и ясно мыслящим философом вновь оказался К. Ясперс, переживший период нацизма в Германии, столкнувшийся с его наиболее античеловечными проявлениями и чудом избежавший депортации в концентрационный лагерь вместе со своей женой-еврейкой.
Свою «Идею университета» он дополнил после Второй мировой войны рядом положений, в которых подчеркивал политический характер университета как явления общественной жизни XX столетия: «Истина, которой служит университет, носит политический характер в полном смысле слова, т.к. с ее помощью может появиться человек, в процессе ежедневного обновления и возрождения становящийся собственно политическим существом, он может превратиться в гражданина, живущего в сообществе и вместе с ним. Только он один способен стремиться к миру через свободу, опираясь на истину» [Jaspers 1961]. Однако данная идея не может быть понята и усвоена без обращения к прошлому германских университетов. Историческая ретроспектива выявляет основные политические факторы, сыгравшие решающую роль в развитии науки и высшего образования в Германии, сохраняющие значимость и в XXI в.
В 1927 г. Карл Гриванк сформулировал определение взаимосвязи научной и образовательной деятельности с основными характеристиками государственной политики, а значит и с политическим режимом: «Государство стимулирует развитие науки, а наука, в свою очередь, представляет собой служение государству и нации» [Spenkuch 2010: 136]. При этом история свидетельствует: нигде и никогда наука, образование и государственная политика не были связаны так тесно, как в Германии, а развитие науки не представляло такую ценность для государства, особенно в периоды, когда государство оказывалось в тупике и нуждалось в новых стимулах развития, как в период после поражения в Первой мировой войне.
Тезис Гриванка содержит три элемента: указание на рост значения науки как таковой, на особое значение поддержки науки и образования государством, в т.ч. финансовой, а также на национальный дух в научной деятельности. Все три составляющих можно обнаружить в государственной политике Пруссии уже в 1817 г., когда было создано Министерство по делам образования и религии, задача которого заключалась в поддержке развития науки. Это противоречило идеям Гумбольдта и других реформаторов, например Шлейермахера, выступавших в 1810-х гг. за максимальное исключение вмешательства государства в деятельность реформированных университетов. По мнению Гумбольдта и его соратников, государство только препятствовало развитию университетов, за государством должны были сохраняться только вопросы экономического характера, полицейский надзор и наблюдение за влиянием университетов на развитие государственной службы [Spenkuch 2010: 135].
Развитие университетов тормозили финансовые трудности, т.к. иерархия ценностей, в которой образование и наука оказываются второстепенными в системе приоритетов, характерна именно для авторитарных режимов, отдающих абсолютное предпочтение внешней политике, часто носящей агрессивный характер, а значит требующей существенных затрат на военные цели. Кроме того, сохра- нение монархического строя требовало формирования не самостоятельно мыслящих и активно действующих граждан, а верноподданных.
Эрой либеральной образовательной политики, которая не только допускалась в Пруссии, но и получала поддержку из государственного бюджета, была эра Альтенштайна1 и одного из его сподвижников – Шульце2. Однако тенденции развития этого периода носили противоречивый характер: решения министерства, хотя и принимавшиеся с благими намерениями, во многих случаях оказывали на развитие системы образования тормозящее воздействие. Так, ориентация на развитие в системе общего образования преимущественно гимназий с постепенным исключением других типов школ, например пользовавшихся большой популярностью школ высшей ступени для третьего сословия ( höhere Bürgerschulen ), признание кодифицированного в 1834 г. аттестата зрелости единственным документом, дающим право на поступление в высшие учебные заведения, а также ужесточение требований к содержанию высшего образования и проведению экзаменов, особенно выпускных испытаний для врачей и учителей, резко снизили стремление более широких социальных слоев к получению высшего образования.
В истории прусского образования отчетливо выделяются и этапы развития, на которых политика министерства носила ярко выраженный консервативный характер, в частности, при министрах Фридрихе Айххорне3 и Карле Отто фон Раумере4. С личностью Айххорна связывали первоначально надежды на либерализацию политики в сфере образования, однако он стремился к сохранению и даже усилению консервативных тенденций, в частности к усилению связи образования с религией как на этапе обучения в школах, так и в университетах. Это происходило, несмотря на то что в министерстве по-прежнему работал Шульце, в сфере ответственности которого находились университеты.
Возглавлявший министерство с 1850 г. фон Раумер был одним из главных представителей ортодоксальной абсолютистской реакции. Главным в сфере образования стало стремление сделать христианский элемент фундаментом в первую очередь народных школ. Консервативные тенденции имели глубокие корни: еще в 20-е годы XIX столетия группа деятелей системы образования приняла меморандум, в котором утверждалось, что «университеты считают себя научноисследовательскими учреждениями, местом, где делаются открытия и изобретения, в то время как их настоящее предназначение заключается в том, чтобы быть институтом для формирования хороших слуг церкви и государства» [Spenkuch 2010: 145].
Несмотря на прилагаемые министерством усилия по продвижению консервативно-монархических и церковно ориентированных ценностей, а также ограничение деятельности либерально настроенных студенческих объединений, остановить развитие университетов в духе реформ Гумбольдта, Альтенштайна, Шульце как корпораций, ориентированных на исследовательскую научную деятельность, не удалось. При анализе места и роли реформ в сфере образования среди многочисленных прусских реформ периода после наполеоновских войн нельзя не учитывать особое отношение к ним реформаторов, не связанных непосредственно с данной сферой. Так, автор новой военной доктрины Август
Найдхардт фон Гнайзенау в своих письмах Харденбергу, возглавлявшему подготовку конституции, писал еще в 1814 г.: «Пруссии следует завоевывать новые германские земли не столько путем применения военной силы, сколько либерализмом основных принципов организации государства. Необходимо привлекать талантливых людей должностями и разными формами поддержки… Наши университеты должны перетянуть к себе самых талантливых немецких ученых высокими окладами…» [Erdmann 1985].
Можно констатировать, что в королевстве вплоть до создания в 1871 г. Германского рейха в условиях авторитарного монархического режима сфера образования, в первую очередь университетского, а также научные исследования, как в университетах, так и во вновь создаваемых исследовательских учреждениях вне их, играли значительную роль в становившемся все более интенсивным экономическом развитии, а также способствовали включению в общественную жизнь новых групп, ориентированных не на верноподданнические идеалы, не требовавшие наличия у граждан собственной политической позиции, а нацеленных на научное знание, формировавшее активного и самостоятельно мыслящего гражданина. Соответственно, в значительной степени появление свободно мыслящих ученых и университетских преподавателей размывало основы авторитаризма и готовило почву для общественного прогресса, хотя результаты этого развития в Германии оказались достаточно противоречивыми.
Период формирования рейха, начиная с 1866 г. и в первые десятилетия после 1871 г., характеризовался стремлением к сохранению ограничений в получении университетских дипломов, стремлением препятствовать появлению «пролетариата умственного труда». Однако уже в конце столетия, а особенно в начале нового века, рост населения, экономический подъем и повышение потребности в подготовленных кадрах для самых разных сфер деятельности привели к постепенному снижению барьеров и окончательной отмене ограничений перед началом Первой мировой войны. Расцвету университетов при этом способствовали увеличение налоговых поступлений, получение репараций с Франции после Франко-прусской войны, а также мотивы, связанные с национальным возрождением и консолидацией немецких земель в рейхе. Не меньшую роль сыграла типичная для либерализма вера в роль науки и самовоспроизводящийся процесс развития и распространения научного знания, источником которого, безусловно, были университеты.
Как указывает российский исследователь Е.В. Неборский, изменение роли и места университетов в жизни Германии было связано также с существенным сдвигом в системе среднего образования, где наряду с классическими гимназиями появились гимназии, в которых изучались естественные науки и современные иностранные языки [Неборский 2014: 36]. В развитии прусских университетов и всего германского высшего образования в целом на многие десятилетия ведущей стала система Альтхофа1, в которой специалисты выделяют 6 основных элементов: 1) профессионализацию управления университетами и превращение его в классическую бюрократию; 2) контроль системы назначения профессоров университетов со стороны министерства; 3) формирование специальных центров по отдельным дисциплинам в соответствующих университетах (например, в Геттингене – математика, физика; в Бонне – филология; в Киле – экономика; в Бреслау – Восточная Европа); 4) мобилизацию частных финансовых ресурсов для проведения научных исследований, в особенности вне университетов; 5) развитие внутригерманских и международных организационных механизмов и механизмов сотрудничества; 6) обеспечение достижения всех вышеуказанных целей через широкую сеть личных связей, доверенных лиц и распространителей данных идей [Vereeck 2001], которые, однако, воспринимались неоднозначно, в т.ч. и выдающимся немецким социологом М. Вебером [Wissenschaftsgeschichte… 1991: 503-563].
Первая мировая война стала катализатором националистических и шовинистических настроений, в т.ч. в высшей школе. Ярким свидетельством этого служит так называемый Манифест 93 – обращение известных ученых и деятелей образования «к культурному миру» [Brocke 1985], оправдывающий действия Германии и ставший в определенном смысле первым шагом к катастрофе 1933 г.
Развитие университетов и системы образования, а также научной деятельности в целом после окончания войны и революции 1918 г. носило крайне сложный характер: с одной стороны, научный и образовательный престиж Германии был во многом утрачен и восстанавливался медленно в связи с международной изоляцией Германии вплоть до ее вступления в Лигу наций в 1925/26 гг. Кроме того, вся система испытывала серьезные финансовые трудности, хотя многие деятели науки и образования, следовавшие традициям последних лет существования монархии, продолжали свою деятельность [Spenkuch 2010: 239-240].
Одновременно в Германии проводились разнонаправленные реформы, результатом которых были достаточно радикальные сдвиги в образовательной политике, связанные с включением в состав рейхстага и правительства социал-демократов, демократов, представителей партии центра. Система высшего образования стала более демократичной, активно развивались новые дисциплины – педагогика, социология, политология; интенсивно формировались новые научно-исследовательские структуры; осуществлялась системная поддержка образования рабочих и других слоев населения через народные школы, библиотеки и независимые объединения; налаживались международные научные и образовательные контакты, в т.ч. с СССР; формировалась система поддержки студентов и молодых преподавательских кадров с помощью стипендий, оплачиваемых рабочих мест для приват-доцентов, создание студенческих общежитий и столовых.
Все реформы высшего образования в эпоху Веймарской республики затруднялись как финансовыми трудностями (вплоть до 1923 г., когда наступила стабилизация валютного курса, а в дальнейшем – в период кризиса 1929/1930 гг.), так и рядом политических факторов: критикой слева (реформы недостаточно радикальны) и справа (реформы слишком радикальны); нараставшим отрицательным отношением к республиканским идеалам, национализмом, причем не только со стороны преподавателей университетов, но и со стороны студентов; давлением правительства (в составе представителей социально-либеральной партии и католической партии центра), требовавшего достижения консенсуса между всеми группами интересов; стремлением соблюсти нормы правового государства, ориентированного на сохранение автономии университетов. К.Х. Беккер1 намеренно не применял меры насильственного характера, считая их нарушением демократических и республиканских принципов, однако это не приводило к лояльному поведению университетов в отношении министерства, а наоборот, воспринималось как слабость и создавало условия для нарастания негативных явлений. В таких условиях большие трудности вызывало также формирование верного республике преподавательского корпуса [Döring 1975].
К сожалению, все начинания республики были не просто остановлены, а сведены на нет последующими событиями, происходившими после прихода к власти нацистов в 1933 г. По оценкам германских ученых, в период с 1933 по 1945 г. наука на территории стран немецкого языка потеряла в целом около 3 000 ученых, т.е. до одной трети всего научного персонала. К счастью, около двух третей этих людей сумели эмигрировать: произошел катастрофический исход интеллектуальной элиты. Причем многие ученые, не имевшие нежелательного происхождения, были уволены в связи с их отрицательным отношением к господствующему режиму. В большом числе случаев это происходило по доносу их учеников, многолетних друзей и коллег, которые впоследствии получали их должности [Uhlig 1993].
Главным направлением действий нацистов в отношении университетов была так называемая унификация, приобщение к господствующей идеологии ( Gleichschaltung ), заключавшаяся в удалении из системы высшего образования чуждых «возрождающейся» германской нации по происхождению и мировоззрению элементов, назначение на руководящие должности проверенных сторонников режима, внедрение идеалов национал-социализма в содержание образования. Изменения поддерживались большой частью преподавателей, а также студентами, которые ожидали от новой власти реформ. Однако они довольно быстро утратили интерес к политике, столкнувшись с разрывом международных связей, жестким доминированием идеологии, трудовой повинностью, милитаризованными физическими упражнениями и т.п.
Как указывает Сильвия Палечек, несмотря на кажущийся радикализм проведенных изменений, нацисты не осуществили сколько-нибудь значимых реформ [Paletschek 2006]. Это было связано, прежде всего, с отсутствием четко сформулированных целевых установок. Национал-социализм не был способен выработать конкретную позицию по отношению к науке и образованию.
Непросто развивалась ситуация в обеих частях Германии после войны. В Западной Германии в значительной степени борьба шла между стремлением части университетского сообщества провести радикальные реформы по демократизации высшей школы и ее развитию в направлении модернизации содержания образования и изменения аристократического и иерархического характера организационного строения университетов и не менее настойчивыми усилиями по возвращению к классическим традициям. Процесс осложнялся также жестко проводившейся западными союзниками денацификацией и последовавшим вскоре после нее возвращением в университеты уволенных на первом этапе послевоенного восстановления профессоров и доцентов. Причины трагических событий предшествовавшей эпохи часто видели в разрыве связей между различными направлениями науки и образования, сделавшем их неспособными противостоять экспансии антигуманистической идеологии. В связи с этим в начале обучения в университетах вводились различные формы интегрирующих курсов для расширения кругозора студентов и знакомства их с основными гуманистическими ценностями западной цивилизации1.
Одновременно в Восточной Германии, находившейся в Советской оккупационной зоне, был выдвинут лозунг: «Университеты – народу!», и в 1949 г., в год создания Германской Демократической Республики, были открыты факультеты рабочих и крестьян (Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten). Главной задачей этих факультетов была подготовка молодых людей из рабочих и крестьянских семей к сдаче экзаменов на аттестат зрелости, который открывал им путь к высшему образованию. В период с 1949 по 1962 г. их окончили более 35 тыс. обучающихся [Lammel 1986].
Роль факультетов и их взаимосвязь с политическим режимом ГДР оцениваются также неоднозначно: многочисленные сторонники называют их «зачинателями в процессе уничтожения преград в сфере образования и завоевания высшего образования рабочим классом» [Lammel 1986: 317], и в то же время существует мнение, что главным назначением этих факультетов была идеологическая обработка молодежи, формирование лояльных Социалистической единой партии Германии профессиональных кадров, а также воспитание политически правильно ориентированных государственных и партийных деятелей.
Как утверждает в своей статье на основе проведенного исследования Ингрид Мите, надежда СЕПГ направить через рабфаки (так называли подобные институции в СССР) большое число лояльных студентов оказалась иллюзорной [Miethe]. Достаточного числа желающих обучаться на них, обладавших необходимыми способностями, не было, что не позволило придать им массовый характер. С политической точки зрения роль факультетов также не может быть оценена однозначно. Большинство обучающихся не были членами партии и не придерживались определенных политических взглядов, активность выпускников в период их дальнейшего обучения также не была высокой. При этом не отрицается тот факт, что выпускники факультетов отличались большей лояльностью социалистической идеологии и линии партии. Это позволяло опираться на них в моменты острых кризисов, например в 1958 г., во время событий в Венгрии.
Одновременно нельзя не отметить тесную взаимосвязь политического воспитания и профессионального образования в деятельности факультетов, т.к. их выпускники в дальнейшем должны были сдавать экзамены на различные факультеты университетов, чтобы иметь возможность получить высшее образование. Именно рабфаки открыли путь к высшему образованию большому числу людей, для которых оно осталось бы недоступным в другом случае.
Подводя общий итог сказанному, можно сделать вывод, что система образования в целом, а также высшее образование как ее подсистема всегда достаточно тесно связаны с общей политической обстановкой в стране, с политической системой и политическим режимом как способом осуществления власти. Взаимоотношения науки, образования и политического режима, однако, никогда не носят однозначно линейный характер, а представляют собой комплексное и противоречивое явление. Даже тоталитарные диктаторские режимы вынуждены поддерживать если не образование и науку в целом, то отдельные отрасли и направления. Авторитарный режим способен стимулировать развитие и препятствовать ретроградным тенденциям, излишнему консерватизму, стагнации. Финансовой поддержки часто оказывается проще добиться в условиях недемо-кратии, когда решение принимается индивидуально (например, монархом) или зависит от ограниченного круга политических акторов и групп интересов.
Список литературы Германский университет в условиях авторитаризма и тоталитаризма
- Неборский Е.В. 2014. Развитие системы высшего образования Германии. -Проблемы современного образования. № 5. С. 35-39. Доступ: http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-vysshego-obrazovaniya-germanii (проверено 24.10.2016)
- Brocke B., vom. 1985. «Scholarship and Militarism»: The Appeal of 93 «to the Civilized World!» and the Collapse of the International Republic of Letters in the First World War. URL: http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=1725 (проверено 24.10.2016)
- Döring H. 1975. Der Weimarer Kreis. Studien zum politischen Bewußtsein verfassungstreuer Hochschullehrer in der Weimarer Republik. Meisenheim
- Erdmann K.D. u. a. 1985. Preußen. Seine Wirkung auf die deutsche Geschichte. Stuttgart. S. 69-75
- Heidegger M. Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. URL: http://www.staff.uni-giessen.de/~g31130/PDF/polphil/Heidegger.pdf (проверено 24.10.2016)
- Jaspers K. 1961. Die Idee der Universität. URL: http://www.zeit.de/1961/30/die-idee-der-universitaet (проверено 24.10.2016)
- Lammel H.-J. 1986. Arbeiter und Bauern auf die Hochschulen! Zur Entwicklung des Arbeiter-und Bauernstudiums in der Anfangsphase der antifaschistisch-demokratischen Erneuerung des Hochschulwesens. -Das Hochschulwesen. № 34. S. 317-324
- Miethe I. «Die Universität dem Volke!» Entwicklungsphasen der Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten (ABF) der DDR. URL: http://www.die-bonn.de/doks/miethe0301.pdf (проверено 24.10.2016)
- Paletschek, S. 2006. Die deutsche Universität im und nach dem Krieg. Die Wiederentdeckung des Abendlandes. Доступ: https://www.freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/freidok:4655/datastreams/FILE1/content (проверено 24.10.2016)
- Sieg U., Korsch D. 2005. Humboldts Erbe. Eine Einleitung. -Die Idee der Universität heute. München. K.G. Saur. S. 9-25
- Spenkuch H. 2010. Die Politik des Kultusministeriums gegenüber den Wissenschaften und den Hochschulen (W. Neugebeuer, Hrsg.) -Preußen als Kulturstaat. Berlin: Akademie Verlag
- Uhlig R. 1993. Zur Vertreibung der Kieler Wissenschaftler von der Christian-Albrechts-Universität nach 1933. -Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. № 118. S. 211-240
- Vereeck L. 2001. Das deutsche Wissenschaftswunder. Eine ökonomische Analyse des Systems Althoff (1882-1907). Berlin: Duncker & Humblot
- Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter. Das «System Althoff» in historischer Perspektive (B. Brocke, vom, Hrsg.). 1991. Hildesheim: Lax Verlag. 617 s