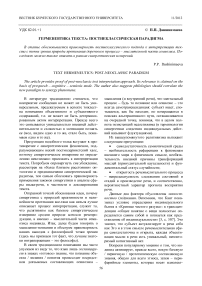Герменевтика текста: постнеклассическая парадигма
Автор: Дашинимаева Полина Пурбуевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается правомерность постнеклассического подхода к интерпретации текста с точки зрения природы протекания доречевого процесса - мыслительной части семиозиса. Последнюю можно также описать в рамках синергетических измерений.
Короткий адрес: https://sciup.org/148180702
IDR: 148180702 | УДК: 82.01.+1
Текст научной статьи Герменевтика текста: постнеклассическая парадигма
TEXT HERMENEUTICS: POST-NEOCLASSIC PARADIGM
The article provides proof of post-neoclassic text interpretation approach. Its relevance is claimed on the basis of prespeech – cognitive – semiosis mode. The author also suggests philologists should correlate the new paradigm to synergy phenomena.
В литературе традиционно считается, что восприятие сообщения не может не быть универсальным, предсказуемым в аспекте тождества понимания объективного и субъективного содержаний, т.е. не может не быть детерминированным актом интерпретации. Прежде всего это связывается уникальностью внешней действительности и схожестью в мотивации познать ее (мол, видим одно и то же, стало быть, понимаем одно и то же).
Презумпция подобного толка вступает в противоречие с синергетическим феноменом, подразумевающим некий постмодернистский хаос, поэтому синергетическое измерение по определению невозможно приложить к интерпретации текста. Попробуем опровергнуть сие убеждение, рассмотрев на «более близком расстоянии» онтологию и предназначение синергетической парадигмы, тем самым обосновать правомерность применения законов синергетики в анализе сферы языка-речи, в частности в декодировании текста.
Отправной точкой обоснования идеи, почему синергетика с природой креативности и нелинейности протекания все-таки как нельзя лучше описывает процесс интерпретации, служит то, что релятивизм как базовое синергетическое измерение сродни природе истоков речепро-дукции, а именно – мыслительной части семи-озиса индивида. Итак, далее будем говорить о мышлении-познании и обоснуем правомерность наших выводов с философской точки зрения (здесь мы признаем тот факт, что лучшие знатоки интраперцепции – это философы).
В своем традиционном понимании мы часто упускаем из виду то, что язык лишь эксплицирует в знаках «готовое» знание, что познание объекта / явления / понятия происходит посредством доязыковых составляющих семиозиса – мышления (и внутренней речи), что ментальный процесс – будь то познание или семиозис – это всегда самотрансценденция: субъект ищет, спотыкается, как бы находит, но возвращается в поисках альтернативного пути, останавливается на очередной точке, понимая, что в целом полнота экзистенций недостижима (в терминологии синергетики следствия индивидуальных действий называют флуктуациями).
Из вышеупомянутого релятивизма вытекают следующие презумпции:
-
• самодостаточность семиотической среды – необязательность референции к феноменам внешнего мира в физическом смысле, необязательность внешней причины трансформаций мыслей (принудительной каузальности) и фундаментальный статус случайности;
-
• открытость речемыслительного процесса – непредсказуемость следования состояний и стадий в производстве речи, и соответственно, вероятностный характер прогноза восприятия речи.
Данные два фактора обусловлены личност-ностью (по)знания. Вспомним, что Кант показывал условие определения индивидуального бытия в «Критике чистого разума»: в трансцен-денции «общее понятие о вещи полностью определяется самим собой и познается как представление об индивидуальности» [5, с. 507]. Это значит, что субъект актуализирует в речи себя как Эго и в этом смысле речемыслительная сфера самодостаточна и открыта, каждая объективация мысли в речи есть уникальный, неповторимый когнитивный акт.
Вопреки популярному мнению о том, что индивид активирует, прежде всего, некую базовую / первичную / прототипическую составляющую знания, общую для всего этноса, затем – периферийные элементы, которые носят идиолект- ный характер, наша позиция прямо противоположна: речемыслительный процесс структурирован личностно, уникально, т.е. становление и развитие мысли всегда личностно, где общесемантический «сухой осадок» занимает достаточно скромное, минимальное положение. Разница лишь в степени эго: от индивида к индивиду оно разнится от суперэго до разумной степени эгоцентризма.
Вернемся непосредственно к герменевтике текста, письменного или устного. Субъект, читая или слушая текст, не может беспристрастно выступать в одном качестве метанаблюдателя: он одновременно проявляется и как «самона-блюдатель», осуществляя интроспективные операции «здесь и сейчас», с одной стороны, и основывая это самотрансцендирование на своих представлениях, убеждениях и верованиях – с другой.
Наиболее выпукло данный фактор показан в описании роста знания у венгерско-английского физико-химика и философа Майкла Полани в программной работе «Личностное знание. На пути к посткритической философии» (1985), во многих отношениях противостоящей критическому рационализму К. Поппера, но сходящейся с последним в использовании принципов биологической эволюции в теории самоорганизации коммуникативной активности субъекта в познании.
У Полани вместо критического рационализма – некоторая форма веры, присутствующая в молчаливом, неартикулированном знании, с одной стороны, и субъективном, личностном знании – особом эпистемологическом гештальте – с другой: «потому что, будучи человеческими существами, мы неизбежно вынуждены смотреть на Вселенную из того центра, что находится внутри нас, и говорить о ней в терминах человеческого языка, сформированного насущными потребностями человеческого общения» [6, с. 20]. Отождествление в новой языковой онтологии проходит в бессознательном и осознаваемом личностном самотрансцендировании.
Рассмотрим в связи с этим две цитаты Жиля Делёза: 1) «Язык никоим образом не возможен без субъекта, выражающего и манифестирующего себя в нем, без объекта денотирования, без классов и свойств, которые означаются в соответствии с фиксированным порядком» [2, с. 113]. 2) «… безличные и доиндивидуальные но-мадические сингулярности конституируют подлинное трансцендентальное поле. Способ, каким индивидуальное порождается этим полем, представляет первый этап генезиса… индивидуаль- ность бытует в мире всегда как цикл схождения» сингулярностей, которые «сворачивают конечное число этой системы» в «конечную энергию» [Там же, с. 153-154].
Если адаптировать философский язык автора применительно к семиозису, это значит: 1) каждый субъект выражает в языке свои представления и образы того или иного денотата (которые сформировались независимо от языковой номинации); 2) индивидуальность проявляется на миг во время «схватывания» смысла «здесь и сейчас» в виде «фиксированного и необратимого направления», при этом всё это происходит только внутри трансцендентального поля.
Иначе говоря, благодаря «нонсенсу»-бифуркации происходит пусть хаотичное, но становление мысли, при этом речь не идёт о единственно возможной версии обретения смысла [Там же, с. 198-224]: нонсенс выполняет функцию инициации версификации (появления версий) смысловых серий. На наш взгляд, Ж. Делёз очень удачно иллюстрирует на протяжении всей книги речемыслительные флуктуации и бифуркации ссылками из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Так, Шляпный Бол-ванщик и Мартовский Заяц живут в своем направлении, но эти направления нераздельны, ибо они переходят «в другое в точке, где оба обнаруживаются друг в друге».
Как представляется, метафора Кэрролла состоит в озвучивании, экспликации парадоксального алгоритма, движения человеческой мысли в языковых знаках, т.е. то, что трансцендентно, становится у него нетрансцендентным в игровом, комичном, но всегда символическом формате. В этом и состоит, по-видимому, гениальность мысли английского философа, математика и писателя Чарльза Лютвиджа Доджсона, писавшего свои оригинальные произведения под псевдонимом.
М. Фуко считает, что Логика смысла Ж. Делёза должна иметь подзаголовок Что такое мышление?1 Сам он неоднократно подчёркивает двусоставность мышления – мысль-событие и мысль-фантазм, из которых первая сингулярна «как бросок кости», вторая – множественна-циклична. Мысль конструирует понятия, а внутри понятий действуют повторения, которые становятся организующим принципом для уподоблений. Так, неограниченные повторения замедляются в событие сингулярной точкой – мысль состоялась как интенсивная иррегулярность. Относительно процесса мышления Фуко использует метафорическое сочетание мораль доброй воли, которая является фундаменталь- ным фактором, защищающим «мысль от её «генитальной» сингулярности»: лиши мысль данной морали, «тогда различие исчезло бы как общий признак, ведущий к всеобщности понятия, и стало бы – различенной мыслью, мыслью о различенном – чистым событием» [7, с. 458459].
Таким образом, в современной постмодернистской философии содержание термина «нонсенс» сводится к отсутствию заданного и стабильного смысла, т.е. термин по определению подразумевает потенциал множественного означивания и специфическую структурацию.
Что касается структуры смысла в классической и неклассической парадигмах, вспомним, что она представляла неизменную и устойчиво-центрированную, осевую ориентацию. Генетически заложенное в когнитивной базе индивида синтагматическое дерево Хомского, производящее ветви в соответствии с заданным алгоритмом, может быть иллюстрацией осевой структуры, хотя, воздавая должное генеративной теории, оговорим, что структура относится не к се-миозису, а к сфере внешней речи.
В постмодернизме древовидной форме обычно противостоит «ризома» (термин от фр. rhizome – корневище, введён в обиход Жилем Делёзом и психоаналитиком Феликсом Гваттари в 1976 г.), подразумевающая структурное единство множественного: «Понятие единства (notion d`unite) появляется только тогда, когда во множестве происходит захват власти означаемым» [2, с. 136]. Недаром итальянский теоретик У. Эко определяет ризому как прообраз символического лабиринта, т.к. у неё нельзя выделить ни начала и ни конца, ни генетической оси и ни центрирующего критерия, тем не менее можно выделить, по мнению создателей понятия, такие основные свойства, как связность, гетерогенность, множественность, незначащий разрыв, картографическое свойство (пространственное расположение) и декалькоманию (оттиск-перевод) – все то, что характеризует синер-гетически организованные системы как рече-мышление.
Нелинейная ризоморфность структуры текста обосновывается апеллированием к «Смерти автора» Ролана Барта, который, называя литературу письмом, постулировал незаданность обозначаемого: «в многомерном письме все приходится распутывать, но расшифровывать нечего», ибо «невозможно достичь дна»; «письмо постоянно порождает смысл, но он тут же и улетучивается, происходит систематическое высвобождение смысла». Так, в отсутствии окончательно- го смысла, заложенного в письме (что подразумевает также и смерть критики), правомерно постулировать свободу контртеологической мысли, отвергнув «бога и все его ипостаси – рациональный порядок, науку, закон» [1, с. 389390].
Интересна идея Жака Деррида об «обозначении лика означаемого по ту сторону лика означающего» [4, с. 122], т.е. идея об асимметричности означающего и означаемого. Это значит, что он подвергает критике фоноцентрическую концепцию знака Соссюра с самоприсутствием субъекта в речи, хотя, с другой стороны, в представлении языка как «поля играющих различений» он опирается на постулат о произвольности знака. В подобной критике Деррида во многом следует за Ницше и Хайдеггером. В частности, принимая хайдеггеровские онтико-онтологическое2 различение и деконструкцию метафизики присутствия, он ставит цель «расшатать механическую, линейную систему соответствий между полем означаемых и цепочками означающих» [3, с. 424]. Данная цель мотивирована убеждением в том, что бытие, которое выступает в качестве означаемого, существует в разных проявлениях: до его локального определения следует дифференцировать бытие «идеальное», «которое есть и отличается от реального, которое не есть , а также и от фиктивного, которое принадлежит области возможного реального» [там же: 170]. Локальное понимание бытия, семиотическая специфика индивида, внутренняя интенция, смысл и другие мнимые, отсутствующие в языке точки, создают основу для предписания смещений в означивании и развеивания соссюровского мифа соответствия.
Исследователям свойственно описывать явления под нажимом «стремления к центру» – предприсутствующего в мышлении, что всегда якобы бывает помыслен в форме некоего сущего. По Хайдеггеру, определения бытия как присутствия характеризует поверхностное толкование явлений и забвение Бытия сущего.
Так, вместо метафизики присутствия постулируется метафизика отсутствия – отсутствия заданного предсуществующего. Последнее, как мы убедились, служит аргументом в пользу того, что интерпретация текста обусловлена пределами и законами игры означивания. Для искоренения подобных «центризмов» необходимо осуществлять деконструкции на целом ряде уровней: этимологическом, социокультурном, семантическом, синтаксическом и других. Данное воззвание Деррида может служить инструкцией к руководству для всех тех филологов, ко-
Т.М. Дей. СИНОНИМИЧЕСКИЙ РЯД КАК СРЕДСТВО ФИКСАЦИИ НОВОГО ЗНАНИЯ О МИРЕ торые постулируют законность множественности интерпретации смысла и, так скажем, «созрели» для работы в рамках постнеклассической парадигмы.