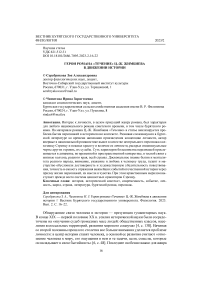Герои романа «Течение» Ц.-Ж. Жимбиева в движении истории
Автор: Серебрякова Зоя Александровна, Чимитова Ирина Зоригтоевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Интерес к личности, в целом присущий жанру романа, был характерен для любого национального романа советского времени, в том числе бурятского романа. На материале романа Ц.-Ж. Жимбиева «Течение» в статье анализируется проблема бытия персонажей в историческом контексте. Развивая сложившуюся в бурятской литературе ко времени написания произведения концепцию личности, автор впервые в национальной романистике вывел в качестве центрального персонажа колхозницу Сэренцу и показал красоту и величие ее личности, раскрыл индивидуальные черты других героинь, их судьбы. Суть характеров большинства персонажей прослеживается в динамике, во временной и пространственной конкретике, в тесной связи с жизнью колхоза, родного края, всей страны. Доскональное знание бытия и менталитета родного народа, внимание, уважение и любовь к человеку труда, талант и мастерство обусловили достоверность и художественную убедительность повествования, точность и емкость отражения важнейших событий отечественной истории через призму жизни персонажей, их мысли и чувства. При этом нравственным мерилом выступает прежде всего система ценностных ориентиров Сэренцу.
История, исторический контекст, современность, событие, личность, народ, страна, литература, бурятский роман, персонаж
Короткий адрес: https://sciup.org/148326723
IDR: 148326723 | УДК: 821.512.31 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-2-16-22
Текст научной статьи Герои романа «Течение» Ц.-Ж. Жимбиева в движении истории
Серебрякова З. А., Чимитова И. З. Герои романа «Течение» Ц.-Ж. Жимбиева в движении истории // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 2. С. 16‒22.
Обнаружение связи человека и истории — презумпция гуманитарных наук. В конце ХIХ — первой половине ХХ в. усилия исторической науки были сосредоточены на «изучении судеб громадных масс людей: общественных классов, населения колоссальных территорий, развитии мирового социума» [4, с. 138]. Начиная со второй половины прошлого столетия все больше внимания уделяется проблеме личности: в центр истории ставят человека, а основой ее развития считают «отношение человека к миру, его ощущения в нем и те задачи, цели, смыслы, которые он вкладывает в свою бытийность» [6, с. 48]. Последнее особенно важно для жанра романа. «Романная коллизия — человек и общество, человек и история — и сегодня дает литературе великолепную возможность бросить вызов унификации, усред-ненности, упрощению, всему, что угрожает человечеству в эпоху глобализации», — справедливо утверждает С. С. Имихелова [9, с. 69]. «Освоение личностной проблематики, раскрытие эволюции личности в романе становятся важным шагом в развитии национальной литературы», — считает И. В. Булгутова [3, с. 44].
Интерес и внимание к человеку были приоритетны для многих бурятских писателей советского времени, в том числе для романистов 70-х гг. ХХ в., которые, осваивая современность, уже не сосредоточивались на антитезе отжившего и нового, а за описанием привычного уклада и каждодневных забот персонажей стремились отобразить разнообразие людских типов, индивидуальность каждого героя, углубить и детализировать характеры центральных героев, проследить их судьбы в конкретно-историческом контексте, в сложном взаимодействии со временем.
Бурятский писатель Ц.-Ж. Жимбиев в романе «Урасхал» («Течение»), вышедшем в свет в 1978 г., сумел существенно развить сложившуюся в бурятской литературе концепцию личности. С одной стороны, он сохранил противостояние разных типов героев, с другой, обострил сюжетную коллизию и позволил характеру главной героини раскрыться с особой силой. Романному слову, по утверждению М. М. Бахтина, свойственна очень чуткая реакция «на малейшие сдвиги и колебания социальной атмосферы» [2, с. 113], и это ощущается в романе «Течение», автор которого отразил эпоху идеологического сдвига в отечественной литературе и более свободно выразил свой искренний интерес к героям в их индивидуальной характерности.
В центре романа жизнь доярки Сэренцу, показанная в ее восприятии, когда она, оставшись одна с потерявшимися во время наводнения животными на сохранившемся от территории фермы незатопленным островке, вынуждена выливать надоенное молоко на землю. Она вспоминает о переезде с семьей много лет назад по заданию парторганизации на отстающую отдаленную Тасархайскую ферму и о своей жизни и работе там. Тем более велики ее муки в кризисной ситуации: «В наших краях пролить молоко на землю — самый большой грех. Да и как иначе? Люди всю жизнь проводят со скотом и нет для них ничего дороже молока. Для бурята белая пища лучшая еда, лучшее угощение, святое из святых» [7, с. 3]. Свято это и для тетушки героини, которая за свою жизнь надоила «не сосчитать, сколько тысяч, а может, и миллионов литров молока <…> И никогда — никогда! — из чашки не выплеснула, капли не пролила» [7, с. 3].
Сам характер таких переживаний, их истоки осмыслены В. Ц. Найдаковым как связанные с глубинными основами народной жизни: «Именно это дает Сэ-ренцу силы на действительно героический подвиг, который она совершает во время большого наводнения» [10, с. 202–203]. В характере героини много и личного, обусловленного неповторимой индивидуальностью, богатством дарований. Благодаря мастерству психологического анализа Жимбиев сумел показать доминанты характера главной героини, детерминированные как национальной средой, спецификой советского периода, так и собственной индивидуальностью.
Это самоотверженность, доброта, стремление помогать людям, чуткость, великодушие, нравственная чистота, благородство, мудрость, природный ум, обаяние личности и женская привлекательность. Богатство натуры Сэренцу раскрывается в восприятии ею красоты природы, эстетического восприятия сенокоса, дойки, описания того, как она любуется молодежью, прибывшей для работы на ферме, восхищается их знаниями, радуется и радует других, особенно детей, что в условиях военных и послевоенных лет удавалось не всем.
Сочетание в ней столько незаурядных позитивных качеств некоторых окружающих удивляет, кажется невероятным, как и ее благотворное влияние на окружающих. «Люди такого в своей человеческой сути характера — как бы над временем, которое может быть лучше или хуже, но они всегда стараются быть лучше» [5, с. 383].
Сэренцу, конечно, не единственный положительный персонаж в романе. Другие герои, самоотверженные, стойкие, также способны справляться с трудностями. Это не только председатель колхоза Шагдарон, свекор главной героини Боди, большинство доярок, но и их дети, и старушка Бишихан абгай, которая понятия не имеет, что такое пенсия, что давно заслужила ее, и обижается на просьбы расстаться со ставшей непосильной работой.
Боди как единственный мужчина на ферме, стараясь облегчить труд доярок, добровольно выполняет множество обязанностей. Ожидая возвращения сына, он живо интересуется вестями с фронта. С почтением относится к сакральным объектам, к которым относится символизирующее прошлое обо, древний валун с полустертыми знаками и изображением сцены охоты. Почтение к прошлому воплощено и в том, что детвора Тасархая заслушивается древними сказками и легендами.
Шагдарон похож на активистов из других национальных романов: он «всегда был первым — первым комсомольцем, первым трактористом. В числе первых ушел и на фронт» [7, с. 37]. Герои такого типа «были убеждены в необходимости самопожертвования во имя общего блага и именно так строили свои жизни» [11, с. 59]. Награжденный боевыми орденами и медалями, израненный, Шагдарон чтит память о фронтовом братстве.
Большинство образов жизненны, ярко выписаны, органично вписаны в сюжетную линию романа. При этом позитивно оцениваемым персонажам, конечно же, противопоставлены сложные характеры. Автор не идеализирует колхозников как таковых. Образцом неоднозначного характера является Удамбра: она настолько злопамятна (не может простить Сэренцу, что в молодости Зандан выбрал в жены именно ее, а не Удамбру) и завистлива, что постоянно притесняет свою соперницу и пытается обесценить ее труд. Втайне от мужа Удамбра вынуждает тех, с кем проработала много лет, откармливать на ферме свой личный скот. Другой отрицательный персонаж — злобный, желчный, агрессивный и корыстный гуртовщик, мучающий перегоняемый на мясокомбинат скот, за спиртное меняющий откормленный скот на истощенных животных. На реплику доярки об убытке государству и о том, что ей не все равно, он цинично отвечает: «Значит, ты одна из тех… которые Америку догоняют? Давай, давай, устраивай эти гонки. Нас они не касаются» [7, с. 162–163].
Прозаик убедительно раскрыл сопряженность бурятского села с историей страны, не случайно Ц.-Ж. Жимбиева включают в число писателей, в романах которых образы природы, труд степняков «вписаны в историческую, культурную жизнь нации» [8, с. 42]. Это наглядно показано на фоне такого эпохального события и сурового испытания, как Великая Отечественная война. Показана сдержанная атмосфера проводов на фронт: «Ни одна из женщин слезы не пролила. Как подобает буряткам, ничем не выдали они печали в час расставания с любимыми. Лишь примолкли, догадываясь, какие ждут их еще беды и утраты» [7, с. 5]; ожидание вестей с фронта: «В сводках Совинформбюро замелькали названия городов, освобожденных нашими войсками, названия, которых и слыхом не слыхивали в далеких забайкальских улусах» [7, с. 6].
Достоверно переданы переживания героев за своих родных и близких. В семье Сэренцу не дождались Зандана, в память о котором осталась фронтовая фуражка, значок ГТО и любимая песня о красном сандале, которую часто поют и слушают. Все село с волнением ждет вестей с фронта, радуется вместе со страной долгожданной победе, а позже успехам Родины в науке, технике, культуре и т. д.
В романе убедительно отражены элементы менталитета советского периода с его уважением к образованию. Так, торжественное чувство и волнение охватывают главную героиню, которая, хотя недолго проучилась в школе, при любой возможности приходила туда. Благодаря точности деталей в романе создается впечатляющая картина эпохи: пустая шкатулка для украшений, так как все они были сданы фонд обороны, семилетний мальчик, принимающий леденцы за цветные камешки, обычная гостиница, кажущаяся впервые приехавшей в город доярке чуть ли не дворцом, ликование на семейном торжестве при известии о полете в космос В. Терешковой, поощрение колхозного ветерана путевкой на черноморский курорт и т. д.
Особенностью романа является то, что писатель дал емкий образ действительности: не только подчеркнул достоинства народа и эпохи, но воспроизвел и недостатки, полно показал негативные стороны советской действительности. Это непродуманные кампании вроде распашки неплодородных земель или насаждения в Забайкалье кукурузы; назначение председателями колхозов людей, не разбирающихся в деле; годами простаивающая на фермах техника, и, хотя к концу повествования она в Тасархае заработала, школьники уже далеки от мечты о сельских профессиях и их родители солидарны с ними и т. д.
Среди отрицательных советских реалий замеченное еще В. Маяковским пустословие собраний, съедавших свободное и рабочее время, эпизод, описывающий, как вслед за начальством местный записной оратор призвал колхозников помочь стране догнать и перегнать США по производству мяса и молока. Повествователь комментирует данный эпизод таким образом: «Скажи эти слова кто другой, люди восприняли бы их как надо. Но этот болтун до того надоел своими трескучими речами по любому поводу и ничем, кроме громких выступлений на собраниях, не отличался, что кто-то тут же внес предложение отправить выступавшего за океан для проверки соревнования двух систем» [7, с. 125–126].
Пародией на подобные мероприятия выглядит проникнутый юмором и теплым отношением к дояркам эпизод, когда Шагдарон почти усыпил уставших, замерзших и задремавших в тепле доярок своей речью о подписке на очередной заем, связанный с восстановлением народного хозяйства: «Гомбо-Доржи громко повторил:
– Я вас спрашиваю: на сколько кого подписать?
Доярки вздрогнули. Одна из них не то потянулась спросонья, не то хотела поправить волосы и подняла руку. Остальные, глядя на нее, сделали то же самое.
Гомбо-Доржи нахмурился, но не смог сдержать улыбки:
– С вами не пропадешь! Проголосуете за что хочешь.
А провинившиеся той порой перешептывались, выясняя, ради чего они поднимали руки…
Посмеялись над собой и к полному удовольствию председателя согласились не отставать от передовых — дать взаймы государству по тысяче рублей» [7, с. 89].
Узнаваем коллективный портрет тогдашних функционеров: «Городское начальство в отдаленных поселках… бывало редко… Кого заманишь в такую глушь? Случалось, правда, появлялись перед какой-нибудь важной кампанией найдалгаты — уполномоченные, люди важные, представительные. Держались они недоступно. Распекали колхозных руководителей, отдавали строгие распоряжения, часто невыполнимые, и отбывали восвояси, не удостоив вниманием колхозников» [7, с. 124–125].
Свидетельством оторванности отдельных идеологем от действительности является безликость красного уголка при ферме с плакатами, скудным набором книг, шашками, шахматами и часто не работающим из-за отсутствия батареек радиоприемником. Только потребность людей в общении наполняет жизнью это помещение.
Воспроизведенное в судьбах героев романа тридцатилетие предстает как одно из звеньев истории советской эпохи. Ц.-Ж. Жимбиеву удалось решить одну из задач литературы, которую Ч. Айтматов видел в художественном осмыслении прошлого, необходимом для того, «чтобы выявить опыт, приобретенный каждым народом в процессе его исторического развития, чтобы глубже оценить новую историческую действительность в ретроспекции пройденных эпох» [1, с. 7]. Автор романа «Течение» дал полный и глубокий анализ судеб сельских тружеников, показал их самоотверженный труд, истинные ценности и полную глубокого смысла жизнь, олицетворяющую константы человеческого бытия, не девальвируемые ходом времени.
Список литературы Герои романа «Течение» Ц.-Ж. Жимбиева в движении истории
- Айтматов Ч. Плач перелетной птицы // Литературная газета. 1972. 15 нояб. С. 7. Текст: непосредственный.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Москва: Художественная литература, 1975. 504 с. Текст: непосредственный.
- Булгутова И. В. Диалог культур в литературном процессе Бурятии ХХ в // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. № 1. С. 40‒45. Текст: непосредственный.
- Володихин Д. История и персона. Москва, 2020. № 9. С. 136–142. Текст: непосредственный.
- Гачев Г. Д. Чингиз Айтматов (в свете мировой культуры). Фрунзе: Адабият, 1988. 488 с. Текст: непосредственный.
- Киселев А. Ф., Лубков А. В. Человек в зеркале столетий. Поиски идеалов личности от античности до наших дней. Москва: Вече, 2020. 320 с. Текст: непосредственный.
- Жимбиев Ц.-Ж. Течение: перевод с бурятского / послесловие А. Белоусова. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1982. С. 3–260. Текст: непосредственный.
- Имихелова С. С. Личность и национальная картина мира в бурятском романе // Россия — Азия: механизмы сохранения и модернизации этничности: материалы международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 18‒21 июня 2008 г.). Улан-Удэ, 2008. Вып. 3. С. 41–43. Текст: непосредственный.
- Имихелова С. С. Мозаика национальной жизни: о литературном процессе в Бурятии (2010-е гг.). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2020. 216 с. Текст: непосредственный.
- Найдаков В. Ц. Путь к роману. История формирования бурятской прозы. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1985. 262 с. Текст: непосредственный.
- Серебрякова З. А. Пути воплощения национального характера в бурятском романе о современности. Улан-Удэ: Изд-полигр. комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2009. 96 с. Текст: непосредственный.