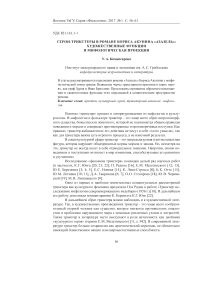Герои-трикстеры в романе Бориса Акунина "Азазель": художественные функции и мифологическая проекция
Автор: Комиссарова Ульяна Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются персонажи романа «Азазель» Бориса Акунина с мифопоэтической точки зрения. Выявлены черты трикстерного архетипа в таких героях, как граф Зуров и Иван Бриллинг. Прослежены принципы образного воплощения и сюжетогенные функции этих персонажей в семантическом пространстве романа.
Архетип, культурный герой, трикстерный комплекс, мифология
Короткий адрес: https://sciup.org/146122010
IDR: 146122010 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Герои-трикстеры в романе Бориса Акунина "Азазель": художественные функции и мифологическая проекция
Понятие «трикстер» пришло в литературоведение из мифологии и культурологии. В мифологии и фольклоре трикстер – это чаще всего образ антропоморфного существа, божества или животного, который не подчиняется общим правилам поведения и морали и совершает противоправные и противоречивые поступки. Как правило, трикстер амбивалентен: его действия не несут в себе «злого умысла», так как для трикстера важна суть игрового процесса, а не конечный результат.
В социокультурной сфере трикстер – это непредсказуемая и антисоциальная фигура, которая нарушает общепринятые нормы морали и закона. Но, несмотря на это, трикстер не всегда несет в себе отрицательное значение. Напротив, своим поведением и поступками он вносит в мир изменения, способствующие его развитию и улучшению.
Исследованию «феномена трикстера» посвящен целый ряд научных работ (в частности, К. Г. Юнга [20; 21; 22], П. Радина [16], Е. М. Мелетинского [12; 13], Ю. Е. Березкина [3; 4; 5], Е. С. Новика [14], К. Леви-Стросса [8], Б. К. Отто [15], Ю. М. Лотмана [10; 11], Д. А. Гаврилова [6; 7], О. О. Столярова [18], Ю. В. Чернявской [19], М. Н. Липовецкого [9].
Одно из первых и наиболее значительных концептуальных рассмотрений трикстера как культурного феномена предложил Пол Радин в работе «Трикстер: исследование мифологии североамериканских индейцев» (1956 г.) [16]. В дальнейшем его работу дополнили комментариями К. Кереньи и К.Г. Юнг [22].
В дальнейшем образ трикстера можно наблюдать и в художественной литературе. Так, в художественных произведениях трикстер – это чаще всего сообразительный озорной человек или существо, которое пытается противостоять опасностям и проблемам окружающего мира с помощью различных уловок и хитростей. Также трикстер в литературе часто выступают в роли антагониста или двойника «культурного героя» (термин Е. М. Мелетинского) [11, с. 942]. В современной литературе трикстер больше сохранился как архетипический персонаж, не обязательно имеющий божественное начало или сверхъестественные способности.
Также нам хорошо известны персонажи, которые в сказках и легендах играют роль «проводников» и помогают «культурному герою» достичь поставленной цели. Подобную роль часто примеряют на себя и герои-трикстеры. Е. М. Мелетин-ский в своей статье «Культурный герой» [12] прямо говорит о героях-трикстерах, функция которых – помогать добывать людям культурные элементы и природные блага. Исходя из материалов Мелетинского, можно распределить всех героев-трикстеров на условной шкале «отрицательные – положительные» персонажи (на отрицательном («демоническом») полюсе окажутся трикстеры типа гетевского Мефистофеля, а на противоположном (положительном) полюсе – герои карнавально-плутовского ряда типа Труффальдино или Фигаро).
Подобное распределение мы также обнаруживаем в исследованиях Ю. Е. Березкина. Он строит «треугольник», с помощью которого распределяет роли персонажей (в том числе роли героев-трикстеров) [5]:
Хозяин
Герой Сильный Противник
Свой ТРИКСТЕР Чужой
Неудачник Слабый Слабый противник
Ю. Е. Березкин, анализируя трикстеров, говорит, что «настоящий» трикстер находится в середине данного треугольника и позиция трикстера может быть смещена от центра в любую сторону. Поэтому трикстер может заключать в себе ряд основных свойств, которые подчас противоречат друг другу: он может быть одновременно сильным и слабым, своим и чужим.
Таким образом, благодаря работам исследователей, занимающихся изучением трикстерной проблематики, выявлены общие характерные черты и функции, свойственные трикстерам: амбивалентность и бессознательность; зооморфность и оборотничество; «животное» и «провокационное» начало; лиминальность; функция медиатора; трансформация плутовства и трансгрессии в художественный жест; стремление к нарушению табу и границ норм морали; «смеховое начало» и образ шута; внутренняя конфликтность и «детскость»; архетип Тени (двой-ничество); функция демиурга. Хочется отметить, что нами указанны лишь часто встречающиеся характеристики и функции. Основной функцией трикстера в культуре является провокационная функция .
Однако, несмотря на то что в последнее время феномен трикстера активно изучается и данный тип героя приобрел широкую популярность, многие персонажи-трикстеры остались неизученными. Не исследован, в частности, трикстерный комплекс в постмодернистских детективах Бориса Акунина, тогда как изучение данных героев и произведений под «трикстерным» углом поможет пролить свет на генезис и развитие одного из интереснейших архетипов мировой культуры, а также даст новый импульс к пониманию закономерностей литературной традиции.
Так, в героях его романа «Азазель» – графе Зурове и Иване Бриллинге отчетливо просматривается «трикстерный комплекс». Автор обращает внимание на графа Зурова уже при первом его появлении в романе, однако отчетливые трик-стерные черты этот персонаж начинает проявлять в восьмой главе. Первое, что можно выделить, опираясь на сцену с шуткой графа с незаряженным револьвером над Фандориным, это любовь к злым розыгрышам и ярко выраженное комическое начало (перфоманс) [9]. Весь данный эпизод пронизан насмешливыми комментариями графа. Зуров намеренно добавляет действию «художественный эффект» и разыгрывает ситуацию в комическом ключе, несмотря на то что граф играет «на смерть» с Фандориным: «…кто первым вытянет карту черной масти, тот и пустит себе пулю в череп. <…> Тем временем Зуров, картинно перекрестившись, метнул верхнюю карту. Выпала бубновая дама. – Сие Венера, – нагло улыбнулся граф. – Вечно она меня спасает. <…> Эраст Петрович протянул руку и открыл пикового валета» [1, с. 131].
Фандорин был уверен, что умрет в этот вечер, а в итоге над ним лишь посмеялись и выставили «дурачком»: «– Сие Момус, то есть дурачок, – пояснил Ипполит и сладко потянулся. – Однако поздновато» [Там же]. Также в этой сцене можно увидеть элемент трюка. Зуров, в попытке обмануть (выставить посмешищем) своего контрагента Фандорина, прибегает к уловке. Как и в большинстве эпизодов с трикстерами, основными предикатами данного трюка служат коварный совет, мнимая угроза, подстрекательство, раздразнивание и мнимая слабость [14].
Также образ графа Зурова включает «карточную символику», которая часто соотносится с трикстерами и шутами. Ипполит напрямую связан с картами (которые сопровождают его всю жизнь) и заведует «игорным притоном» (так его дом называет Бриллинг). Зуров обладает фатальным везением, которое проигрывает лишь при столкновении с «врожденной удачей» главного героя. Как и большинство трикстеров, граф испытывает неопределимое влечение к азартным играм, любит играть с судьбой и почти не боится смерти. Зуров играет не ради денег, а ради процесса игры. Его трофеи в кабинете тому подтверждение: «Они проследовали темной анфиладой и оказались в круглой комнате, где царил замечательный беспорядок – валялись чубуки и трубки, пустые бутылки, на столе красовались серебряные шпоры, в углу зачем-то лежало щегольское английское седло. Почему это помещение называлось “кабинетом”, Фандорин не понял – ни книг, ни письменных принадлежностей нигде не наблюдалось. – Славное седлецо? – похвастал Зуров. – Вчера на пари выиграл» [1, с. 131].
К тому же Ипполиту Зурову свойственна насмешливая манера речи, использование замысловатых фраз и остроумных оборотов. Однако порой Ипполит, как всякий трикстер, не осознает, над кем можно шутить, а над кем нельзя (сцена с Гасаном Хайрулле и молитвой) [2, с. 41].
Стоит также отметить, что Зуров изначально находится на «положительном полюсе» и в романе «Азазель» выполняет функцию «трикстера-проводника». Он не противостоит главному герою Эрасту Фандорину – напротив, Зуров помогает ему. Ипполит дает английский адрес госпожи Бежецкой (направляет его), внезапно появляется в сцене у пирса и спасает Фандорина от смерти, застрелив предателя Пыжова. Таким образом, мы видим, что Зуров – трикстер-помощник (об этой функции трикстера см.: [12]), который помогает главному герою преодолевать препятствия, спасает его, а затем исчезает.
Также мы обнаруживаем, что в модели поведения Зурова проявляется одна из базовых трикстерных черт – амбивалентность. Изначально Ипполит Зуров в сюжете романа «смещен» в сторону врага и воспринимается Фандориным как угроза. Но при этом герой не теряет смеховое начало и любовь к трюкам. Позднее мы уже видим Зурова как положительного персонажа, он – на стороне героя. Такой трикстер всегда будет восприниматься как «свой», он будет всегда выигрывать, однако побеждать будет исключительно с помощью трюков, а не благодаря храбрости и силе (см.: [5]).
Второй персонаж в романе «Азазель», в котором мы усматриваем черты трикстера, – Иван Бриллинг. Акунин называет своего героя «человеком будущего». Бриллинг мечтает о прорыве в обществе, он реформатор. В его доме можно увидеть новейшие изобретения, такие как первый телефон – аппарата Белла. Он владеет новинками техники и оружия (бельгийский семизарядный «герсталь»). Однако почти все действия Бриллинга носят деструктивный характер, направлены на разрушение, что характерно для архетипической модели трикстера-«диверсанта».
Но и в этом персонаже проявляется амбивалентность, которая свойственна всем героям-трикстерам. Ради достижения цели, ради «высшего блага» он готов убивать людей. Конечно, в его поступках просматривается и меркантильный интерес, так как Бриллинг прокладывает дорогу не только для «светлого будущего своей страны», но и для своего собственного будущего.
На протяжении всего произведения Иван Бриллинг искусно «водит за нос» главного героя, и Эраст искренне ему верит (Бриллинг умело манипулирует им). И не зря в четырнадцатой главе Фандорину чудится образ паука: «Темный силуэт Бриллинга на фоне окна был словно вырезан ножницами и приклеен на серую бумагу. Мертвые сучья вяза за его спиной расходились во все стороны зловещей паутиной. В голове Фандорина мелькнуло: Паук, ядовитый паук, сплел паутину, а я попался» [1, с. 235]. Здесь просматривается отсылка к пауку-трикстеру.
В сюжете романа Иван Бриллинг выполняет функцию злой тени «культурного героя» Эраста Фандорина [22]. Не зря Фандорин и Бриллинг имеют схожие интересы, а в дальнейшем Фандорин даже перенимает некоторые привычки статского советника (использование метода дедукции). Так, Иван Францев представлен в произведении в роли антагониста, но от классического отрицательного персонажа его отличает именно амбивалентность. Изначально мы видим, что Бриллинг смещен к положительному полюсу и воспринимается Фандориным как друг. Но в конце романа Иван Францевич находится на отрицательном полюсе «сильный-чужой» и занимает позицию, смещенную в сторону врага – трикстер-противник (см. «треугольник» Березкина). Однако стоит отметить, что Бриллинг, хотя и находится на «отрицательном» аксиологическом полюсе, как и любой трикстер, все равно остается амбивалентным героем.
Итак, в романе «Азазель» мы видим двух персонажей-трикстеров, которые отличаются друг от друга набором качеств и разными сюжетными функциями. Граф Зуров выступает в роли помощника главного героя, спасает ему жизнь. Иван Бриллинг выступает в роли антагониста, злого двойника Фандорина. Эти персонажи находятся на разных полюсах (Зуров – «положительный», Бриллинг – «отрицательный»). Каждый из них выполняет свою функцию в сюжете романа (Зуров выполняет функции «проводника» – помощника главного героя; Бриллинг – его злая тень).
Подобное распределение трикстерных функций – находка Бориса Акунина. Принимая во внимание, что трикстерный комплекс может воплощаться в героях в достаточно широком аксиологическом диапазоне, он создал двух персонажей – двойников и одновременно антагонистов. Находясь в одном смысловом пространстве, оба персонажа восходят к одному мифологическому архетипу и одновременно – в авторской (и читательской) шкале ценностей – противостоят друг другу, играя разные сюжетные роли.
The article considers characters of the novel “Azazel” by Boris Akunin from the mythopoetic perspective. The traits of the trickster archetype are revealed in such characters as Count Zuroff and Ivan Brilling. The principles of figurative embodiment and plot-bearing functions of these characters are traced in the semantic space of the novel. Keywords: archetype, cultural hero, trickster complex, mythology.
Список литературы Герои-трикстеры в романе Бориса Акунина "Азазель": художественные функции и мифологическая проекция
- Акунин Б. Азазель. М.: Захаров, 1998. 240 с.
- Акунин Б. Турецкий гамбит. М.: Захаров, 1998. 200 с.
- Берёзкин Ю. Е. Зооморфные трикстеры: закономерности ареального распределения//Бестиарий III. Зооморфизмы в традиционном универсуме. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 250 c.
- Березкин Ю. Е. Смех в фольклорных текстах индейцев Америки//Смех: истоки и функции. СПб.: Наука, 2002. С. 82-103.
- Березкин Ю. Е. Трикстер как серия эпизодов//Studia ethnologica. Труды факультета этнологии. СПб.: Европейский ун-т в Санкт-Петербурге, 2004. С. 98-165.
- Гаврилов Д. А. К определению трикстера и его значимости в социо-культурной реальности//Первая Всеросcийская научная конференция «Философия и социальная динамика XXI века: проблемы и перспективы». Омск: СИБИТ: ИПЭК, 2006. C. 359-368.
- Гаврилов Д. А. Трюкач. Лицедей. Игрок. Образ трикстера в евроазиатском фольклоре. М.: Ганга: Слава, 2009. 288 с.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.
- Липовецкий М. Н. Трикстер и «закрытое» общество//Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С.224-245.
- Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек -текст -семиосфера -история. М.: Ладомир, 1999. 657 с.
- Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. 263 с.
- Мелетинский Е. М. Культурный герой//Мифы народов мира: Т. 1. М.: Сов. энцикл., 1982. С. 942-950.
- Мелетинский Е. М. Предки Прометея. Культурный герой в мифе и эпосе//Вопросы истории мировой культуры. 1958 № 3. С. 114-132.
- Новик Е. С. Структура сказочного трюка//От мифа к литературе: сборник в честь семидесятипятилетия Е. М. Мелетинского. М.: Наука, 1993. С. 145-160.
- Отто Б. К. Дураки. Те, кого слушают короли. СПб.: Азбука-классика, 2008. 496 с.
- Радин П. Трикстер. СПб.: Евразия, 1999. 286 с.
- Роман о Лисе. М.: Наука, 1987. 260 с.
- Столяров О. О. Природа шутовства//Гаврилов Д. А. Трюкач. Лицедей. Игрок. Образ трикстера в евроазиатском фольклоре. М.: Ганга: Слава, 2010. С. 5-10.
- Чернявская Ю. В. Трикстер, или Путешествие в хаос//Человек. 2004. № 3. С.
- Юнг К. Г. Архетип и символ. СПб.: Ренессанс, 1991. 304 с.
- Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. К.: Гос. биб-ка Украины для юношества, 1996. 384 с.
- Юнг К. Г. О психологии образа трикстера//Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев. СПб.: Евразия, 1999. С. 265-286.