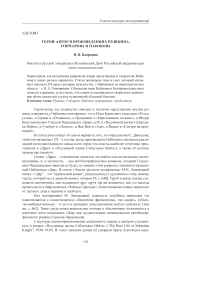Герой-автор в произведениях Пушкина, Гончарова и Набокова
Автор: Бояркина Полина Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Характерная для метаромана рефлексия жанра представлена в творчестве Набокова в самых разных вариантах. Статья посвящена тому из них, который связывает писателя ХХ века с автором, казалось бы, с Набоковым не имеющим ничего общего, - с И. А. Гончаровым. Сближение имен Набокова и Гончарова перестанет казаться странным, если учесть, что одним из центральных творческих ориентиров обоих писателей служил пушкинский «Евгений Онегин».
Пушкин, гончаров, набоков, метароман, герой-автор
Короткий адрес: https://sciup.org/146281278
IDR: 146281278 | УДК: 8.882
Текст научной статьи Герой-автор в произведениях Пушкина, Гончарова и Набокова
Герой-автор, чье творчество описано и частично представлено внутри романа, появляется у Набокова многократно: это и Илья Борисович в рассказе «Уста к устам», и Герман в «Отчаянии», и Цинциннат в «Приглашении на казнь», и Федор Константинович Годунов-Чердынцев в «Даре», и В. в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», и Гумберт в «Лолите», и Ван Вин в «Аде», и Вадим в «Смотри на арлекинов!».
В статье речь пойдет об одном варианте этих, по определению С. Давыдова, «текстов-матрешек» [7] – о случае, когда произведение Набокова становится реализацией неосуществленного замысла его героя (эта модель наиболее отчетливо представлена в «Даре» и «Подлинной жизни Себастьяна Найта»), а также об истоках приема как такового.
Сюжет «Дара» – становление писателя, его работа над несколькими произведениями, и, в частности, – над автобиографическим романом, который Годуно-вым-Чердынцевым написан не будет, но именно этим романом становится написанный Набоковым «Дар». В статье «Эпилог русского модернизма» М.Н. Липовецкий писал: «“Дар” – это “зеркальный роман”, рисующий путь художника к тому самому тексту, который мы в данный момент читаем» [9, с. 648]. Герой и автор подчас становятся неотличимы, они подменяют друг друга так же незаметно, как это некогда происходило в байроновском «Чайльд-Гарольде». Повествование плавно переходит от третьего лица к первому и наоборот.
Как подчеркивает М. Липовецкий, плавность подобных переходов «от повествователя к повествователю обеспечена фрагментами, так сказать, субъектно-амбивалентными – то есть в принципе допускающими любого субъекта» [Там же, с. 662]. Такого рода повествовательная техника и обеспечивает возможность в конечном итоге воспринять «Дар» как осуществление ненаписанного автобиографического романа Годунова-Чердынцева.
Структура взаимопроникновения написанного героем и автором усложняется в романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (“The Real Life of Sebastian Knight”, 1938–1939). В. хочет написать роман об умершем брате, блестящем писа- теле Себастьяне Найте, однако ему этого сделать не суждено. Роман напишет автор, двойниками которого одновременно становятся и В., и Себастьян, чьи книги содержат мотивы творчества самого Набокова (как поясняет Б.В. Аверин, «Призматический фацет» Найта отсылает к «Машеньке», «Успех» – к «Дару», «Неясный асфодель» – к самой «Подлинной жизни Себастьяна Найта» [1, с. 358]). В финале романа откровенно предъявлено взаимопроникновение героев и автора. Последняя фраза, которую записывает В.: «Я – Себастьян, или Себастьян – это я, или, может быть, оба мы – кто-то другой, кого ни один из нас не знает» [13, с. 191].
В финале последнего романа Набокова «Смотри на арлекинов!» (“Look at the Harlequins!”, 1973–1974), повторяющего некоторые черты «Подлинной жизни Себастьяна Найта» (автор также позволяет герою стать автором своих произведений, причем всех: «Тамара» – «Машенька», «Пешка берет королеву» – «Король, дама, валет», «Камера люцида» – «Камера обскура», «Красный цилиндр» – «Приглашение на казнь», “Ardis” – «Ада, или Радости страсти» и т. д.) обнаруживается практически неотличимое сходство героя и автора, подготовленное предшествующим повествованием, по ходу которого их неоднократно путали. Герой, очнувшись от затяжного обморока, ставшего своего рода сном наяву, пытается вспомнить свое имя. Он помнит, что при крещении был назван Вадимом – по имени отца. Но фамилия все еще неразличима. Ее возможные варианты, начинаясь на «Н», обнаруживают «ненавистное сходство» с фамилией того автора, с которым его «вечно путали рассеянные эмигранты из какой-то другой галактики» [14, с. 309]. Сливается с именем этого автора и восстановленное памятью имя: «неудобопроизносимое, длинное, словно ленточный червь, “Владимир Владимирович” приобретает в речевой передаче сходство с “Вадим Вадимычем”» [Там же].
Сама фамилия, однако, остается неназванной. Нарочито подчеркиваемая разность между автором и героем одновременно становится указанием и на их сходство.
Описанные особенности, собственно, и формируют то качество, которое превращает произведение в «роман романа», или «метароман». Но любопытно, что приемы, использованные Набоковым, неожиданно связывают его с писателем, с которым, казалось бы, у Набокова нет ничего общего, – с И. А. Гончаровым.
Упоминания Набоковым Гончарова ограничиваются несколькими нелестными оценками. В книге «Память, говори» переданы сетования гувернера братьев Набоковых: «Он жаловался моей матери, что мы с Сергеем – иностранцы, уродцы, фаты, снобы, “патологически равнодушные” к Гончарову, Григоровичу, Короленко, Станюковичу, Мамину-Сибиряку и другим на диво скучным писателям» [Там же, с. 453]. В «Даре» Гончаров упоминается в общем ряду с Тургеневым, Салиасом, Григоровичем и Боборыкиным [12, с. 515]. В другом месте его имя приведено как пример того, что вся русская литература XIX века «занимает – после самого снисходительного отбора – не более трех-трех с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола» [Там же, с. 256].
Тем не менее именно у Гончарова мы встречаем ранний случай введения героя-автора, который работает над романом, остающимся неосуществленным замыслом, но двойником именно этого произведения становится роман Гончарова. Речь идет об «Обрыве». В сознании и бумагах Райского остается лишь «материал», разрозненные фрагменты (портреты, сценки), более всего соответствующие жанру физиологического очерка. Настоящий автор «Обрыва» формирует из этого материала роман, на глазах у читателя демонстрируя, как он вырастает из жанра, разрабо- танного «натуральной школой», с которой Гончаров был тесно связан. Пишущий герой в определенном смысле становится alter ego автора, только если роман Райского остается ненаписанным, то роман Гончарова, собственно, и оказывается тем произведением, которое пытается создать Райский. По мнению Ю. М. Лощица, «подобный композиционный принцип в истории мировой литературы <…> впервые встречается именно у Гончарова» [11, с. 272].
Роман «Обрыв» был прекрасно известен Набокову. В «Даре» он вспоминает, как «у Райского в минуты задумчивости переливается в губах розовая влага» [12, с. 256–257]. Исключено поэтому, чтобы Набоков не осознавал генеалогии столь важного для него приема. Сближение имен Набокова и Гончарова, возможно, перестанет казаться странным и неожиданным, если учесть, что для обоих писателей одним из центральных творческих ориентиров служил «Евгений Онегин». О пушкинских прототипах героев «Обрыва» Гончаров прямо писал в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «Намеки на подобные же отношения между лицами, как у меня в “Обломове” и “Обрыве”, частию в “Обыкновенной истории”, есть у нашего великого поэта Пушкина, например в Татьяне и Онегине, Ольге и Ленском» [4, с. 111]. Вероятнее всего, впечатлениями от пушкинского романа в стихах был вдохновлен и предпринятый в «Обрыве» опыт рефлексии жанра. Только если в «Евгении Онегине» параллельно сюжету героев разворачивается сюжет автора, который на глазах читателей создает свой роман [16, с. 15], то в «Обрыве» герой на глазах читателя работает над романом, который в конечном итоге оказывается написанным самим Гончаровым. Значимость темы творчества в «Обрыве» вполне очевидна – не случайно Гончаров первоначально предполагал дать ему заглавие «Художник» [6, с. 439].
Значение Пушкина для Набокова общеизвестно. Свой первый роман «Машенька» он начинает с эпиграфа из первой главы «Евгения Онегина»: «Воспом-ня прежних лет романы, / Воспомня прежнюю любовь…» [15, с. 24]. В контексте XLVII строфы, откуда взят эпиграф, слово «романы» означает «любовные истории». Но у Набокова оно получает дополнительное значение: «“Романы” здесь имеют двойной смысл: это любовные истории, но это и книги о любовных историях». Возникает эффект, близкий к тому, который описал С. Г. Бочаров, анализируя «Евгения Онегина»: «Роман героев изображает их жизнь, и он же изображен как роман » [3, с. 33]. Эпиграф к «Машеньке» служит признанием в том, что «роман о романе» Набоков создает по «онегинскому» образцу. Практически все дальнейшее творчество Набокова можно рассматривать как создание все более и более сложных по своей конструкции вариантов «метаромана» [8].
Согласно концепции С. Давыдова, «Уста к устам», «Отчаяние», «Приглашение на казнь» и «Дар» объединены темой рождения поэта. В двух первых произведениях автор-демиург ( auctor ) наказывает своих героев за их творческую несостоятельность, в третьем представлен «герой-гностик, пытаемый и казненный архонтами на земле, но вознесенный за верность Творцу в вечное “Царство Небесное”», и, наконец, в последнем, достигая вершины мастерства, герой сам отождествляется с творцом [7, с. 138]. В. в финале «Подлинной жизни Себастьяна Найта» сливается со своим братом и кем-то другим – а именно автором, которым и написан задуманный им роман. В последнем романе «Смотри на арлекинов!» автор становится двойником своего пишущего мемуары героя.
«Едва ли не в каждый момент чтения “вспоминающий читатель” может переживать “радость узнавания”: всего творчества Набокова, отраженного в этом романном тексте; массы биографических подробностей из жизни автора, знакомых по его автобиографической книге и переданных герою; подробностей биографий других автобиографических героев Набокова, переданных тому же Вадиму Вадимовичу; биографических штрихов великих писателей и их героев, вплетенных в жизнь героя; наконец – узнавания бесчисленных и бесконечно преломляющихся литературных реминисценций», – пишут о последнем набоковском романе Б.В. Аверин и М. Н. Виролайнен [2, с. 623]. Создав автобиографию своего пародийного двойника, Набоков варьирует структуру пушкинского романа, где автор присутствует в тексте как герой, рассказывающий о своей биографии, о поэзии и о том, как создается его произведение, ведь и книга Вадима Вадимовича, по его замечанию, – повествование не только о любви, но и о прозе [14, с. 270].
С учетом общей ориентации на пушкинский роман в стихах соединение текстов Гончарова и Набокова в единую литературную традицию представляется более органичным.
Ю. М. Лотман, исследуя проблему текста в тексте, делает следующее заключение: «Игра на противопоставлении “реального / условного” свойственна любой ситуации “текст в тексте”. Простейшим случаем является включение в текст участка, закодированного тем же самым, но удвоенным кодом, что и все остальное пространство произведения. Это будут картина в картине, театр в театре, фильм в фильме или роман в романе. Двойная закодированность определенных участков текста, отождествляемая с художественной условностью, приводит к тому, что основное пространство текста воспринимается как “реальное”» [10, с. 156].
Райскому форма романа кажется наиболее подходящей для отражения жизни: «…жизнь – роман, и роман – жизнь» [5, с. 41]; «Нет, только роман может охватывать жизнь и отражать человека!» [Там же, с. 209].
Набоков не так доверчиво относится к зеркальному отражению жизни в тексте, он помнит, что зеркало создает лишь иллюзию тождества между отражением и отражаемым. Поэтому возникающую в тексте иллюзию реальности он (в отличие от Гончарова) разрушает. И все же введение в текст «Дара» произведений героя подчеркивает «реальность» романа о нем самом, и все вместе демонстрирует осмысление автором жизни как текста.
Список литературы Герой-автор в произведениях Пушкина, Гончарова и Набокова
- Аверин Б. В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Пальмира, 2016. 399 с.
- Аверин Б. В., Виролайнен М. Н. В. В. Набоков//Литература русского зарубежья: (1920-1940). СПб.: СПбГУ, 2013. С. 573-631.
- Бочаров С. Г. «Форма плана»//Бочаров С. Г. Филологические сюжеты. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 25-53.
- Гончаров И. А. Лучше поздно, чем никогда//Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. М.: Худож. лит., 1955. С. 64-113.
- Гончаров И. А. Обрыв//Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 7. СПб.: Наука, 2004. 775 с.
- Гончаров И. А. Обрыв: //Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.: Худож. лит., 1954. 456 с.
- Давыдов С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб.: Кирцидели, 2004. 160 с.
- Липовецкий М. Из предыстории русского постмодернизма (метапроза Владимира Набокова: от «Дара» до «Лолиты»)//Липовецкий М. Русский постмодернизм: (Очерки исторической поэтики). Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1997. С. 44-106.
- Липовецкий М. Эпилог русского модернизма: Художественная философия творчества в «Даре» Набокова//В. В. Набоков: Pro et contra. СПб.: РХГИ, 1999. С. 643-666.
- Лотман Ю. М. Текст в тексте//Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн: Александра, 1992. С. 148-160.
- Лощиц Ю М. Гончаров. М.: Мол. гвардия, 1972. 224 с.
- Набоков В. В. Дар//Набоков В. В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. Т. 4. СПб.: Симпозиум, 2004. С. 188-541.
- Набоков В. Подлинная жизнь Себастьяна Найта//Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. Т. 1. СПб.: Симпозиум, 2004. С. 24-191.
- Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. Т. 5. СПб.: Симпозиум, 2004. 700 с.
- Пушкин А. С. Евгений Онегин//Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 16 т. Т. 6. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 1-205.
- Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб.: Гос. Пушкинский театральный центр, 1999. 432 с.