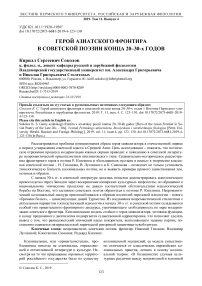Герой азиатского фронтира в советской поэзии конца 20-30-х годов
Автор: Соколов Кирилл Сергеевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема возникновения образа героя-цивилизатора в отечественной лирике в период утверждения советской власти в Средней Азии. Цель исследования - показать, что поэтическое отражение процесса модернизации южных окраин приводит к появлению в советской литературе неоромантической ориенталистики киплинговского типа. Сравнительно-историческое рассмотрение фронтирного героя в поэзии Р. Киплинга и «большевиков пустыни и весны» в творчестве классиков советской поэзии - Н. Тихонова, В. Луговского и К. Симонова - позволяет не только установить типологическую близость колониальных поэтик, но и выявить примеры прямого заимствования тем, мотивов и образов. С начала 30-х гг. в советской литературе делались попытки демонстрировать идеологическое превосходство перед Западом через воскрешение имперских культурных мифологем, но обращение к национальному эпическому прошлому не давало соответствий обстоятельствам идеологической борьбы на Востоке, что заставило советских поэтов обратиться к поэтике Р. Киплинга. Неоромантический колониальный дискурс приспосабливался к образам носителей передовой идеологии - нового «бремени белых», - цивилизующих дикий Туркестан. Из соединения неоромантической стилистики с актуальным вариантом господствующей идеологии к началу 30-х гг. в советской поэзии складывается особый тип ориентального фронтирного дискурса, утрачивающего злободневность по мере модернизации советского фронтира. Киплинговская модель стойкого героя-цивилизатора, человека-функции, к концу предвоенного десятилетия подвергается существенной корректировке, что позволяет сделать вывод о том, что раннесоветский эпический идеал покорителя, выполняющего задание партии, постепенно сменяется патерналистской лирической риторикой защитника-освободителя.
Неоромантизм, советская поэзия, фронтир, николай тихонов, владимир луговской, константин симонов, редьярд киплинг
Короткий адрес: https://sciup.org/147226983
IDR: 147226983 | УДК: 821.161.1“1920-1930” | DOI: 10.17072/2073-6681-2019-4-123-130
Текст научной статьи Герой азиатского фронтира в советской поэзии конца 20-30-х годов
опирались на расовые, этнические и лингвистические признаки <…>. Власть осуществляется людьми существенно другими, чем их подданные» [Эткинд 2003: 110–111]. В случае же с отечественной историей происходила своего рода двойная колонизация: «Россия была как субъектом, так и объектом колонизации и ее последствий, таких, например, как ориентализм. Занятое колонизацией иностранных территорий, государство также стремилось колонизовать внутренние земли России. В ответ на это многочисленные народы империи, включая русский, развивали антиимперские, националистические идеи. Эти два направления колонизации России – внешнее и внутреннее – иногда конкурировали, а иногда были неотличимы друг от друга» [Эткинд 2013: 9–10]. В результате, в русской классической литературе оказывается слабо представлена ориенталистская проблематика и ее магистральным сюжетом становится цивилизационная работа с собственным народом, выступающим в своеобразной роли «внутреннего Другого».
Описанная А. Эткиндом модель «внутренней колонизации» в значительной степени применима к истории России имперского периода. Ситуация существенно меняется после 1917 г., когда формирующееся государство заново осваивает окраинные территории, колониально подчиняя хозяйственную и культурную жизнь «туземцев» новым правилам.
Идеологической и стилистической реформе подвергается и литература новой метрополии, которая сначала ориентируется на разрушение старого мира, готовя культурный плацдарм для мировой революции, а после XIV съезда ВКП(б) (1925 г.) и с последовавшей в этой связи сменой курса на социалистическое строительство «в отдельно взятой стране» начинает выполнять заказ на укоренение единой передовой идеологии в границах национальной, а с начала 30-х гг. – национальных культурных традиций. Именно в этот период перед формирующимся советским литературным мейнстримом возникает мессианская просветительская задача, вполне сопоставимая с цивилизаторским «бременем белого человека».
Оказавшись в кольце идеологических врагов, советская культура довольно быстро выработала способ воздействия на нового Другого: командировки писателей на Запад и формирование «писательских бригад», направляемых в наиболее важные места социалистического строительства – от первой посевной в свободном Туркестане (1930 г.) и строительства Беломорканала (1933 г.) до сражающейся Испании (1936–1939 гг.) и Монголии (1939 г.). Однако при единстве идеологических установок формы борьбы оказывались разными. Демонстрация идеологического превосходства перед Западом шла через воскрешение прежних имперских культурных мифологем, связанных с именами Петра Первого и Александра Невского, но обращение к национальному эпическому прошлому, как становится очевидным, не соответствовало обстоятельствам идеологической борьбы на Востоке. В этой связи показателен неудачный опыт модернизировать фольклорную архаику, в частности, поставить былинную эпическую традицию на службу советской власти. В «новине» сказительницы Е. С. Журавлевой «О боях на озере Хасан» былинная стилистика сама дискредитирует себя при столкновении с совершенно чуждыми фольклору историческими деталями и прецедентными текстами:
За той ли границей дальневосточною
Там живут самураи да японские,
По другу сторону Хасана озёрышка Живут советские могучи богатыри, Там бойцы живут полигработнички, Командиры живут да сверхурочнички <…> Из себя оне да очень бойкие,
И глаза у них очень зоркие.
Сзаду оне видят и видят спереду,
Высоко оне видят да на воздухе,
Далеко оне видят да в долинушке, Оне сталинским духом воспиталисе Ворошиловской смелости набралисе. Однажды было пора-времечко,
Одна тысяча девятьсот тридцать восьмого годышка Числа июля двадцать девятого
Как на тую ли сопку Безымянную, Как на тое ли Хасан да озёрышко, На советских сильных могучих богатырей Налетели на них черны вороны, Наступили самураи да японские <…> Говорили тут советские богатыри:
– Мы своей земли не отдадим вершка, А чужой земли не возьмём ногтя. <…> Как про тую ли битвушку Хасан-озёрную Знает весь мир и знает вся страна;
Нет таких трудностей, каких бы не преодолели Сталинские соколы,
Нет таких крепостей, каких бы не разбили сильны советски богатыри.
[Миллер 2006: 143–145]
Показательны и вызывающие едва ли не пародийный эффект попытки обращения к узнаваемым формулам прежней литературной традиции у молодых советских поэтов. Например, К. Симонов в поэме «Ледовое побоище» (1937 г.) нарочито подчеркивает лермонтовские аллюзии:
С ладони кожу обдирая,
Пролез он всею пятерней
Туда, где шлем немецкий краем
Неплотно сцеплен был с броней.
И при последнем издыханье,
Он в пальцах, жестких и худых, Смертельно стиснул на прощанье Мясистый рыцарский кадык.
Уже смешались люди, кони,
Мечи, секиры, топоры,
А князь по-прежнему спокойно
Следит за битвою с горы.
[Симонов 1979: 375]
Завершается текст куплетом из «Интернационала», как бы закрепляющим уверенность автора в неизбежности грядущей революции в современной Германии.
Таким образом, и попытка осовременить архаический жанр, и выполнение заказа на демонстрацию преемственности между национальной культурной традицией и новой литературой, прославляющей боевой дух и созидательный героизм советского человека, не достигают своих целей, что обусловливает проблему поиска более адекватной новым обстоятельствам литературной традиции, которая могла бы стать «надежной базой для расцвета советской поэзии, бодрой, сильной, динамичной, именно такой, в какой остро нуждались новые хозяева “вишневого сада”», как отмечает И. Ф. Мартынов. «Исторически сложилось так, что пришедшим в России к власти большевикам достались в наследство от старого мира совсем не те поэты, которые могли бы достойно вдохновить на подвиг и труд строителей новой коммунистической Империи» [Мартынов 1987: 169]. Отсутствие в отечественной литературе значимой ориенталистской темы, рефлексирующей отношения с Другим, заставляет молодых советских поэтов отказаться от «наследования» близкой традиции и по-модернистски «присвоить» – точнее – «пересоздать» генетически чужую, но соответствующую политической и творческой необходимости.
20-е и 30-е гг. в отечественной поэзии связаны с «киплинговским бумом». Описывая расстановку творческих сил в петроградском Доме Искусств в начале 20-х, В. Б. Шкловский замечает: «Вообще в Ленинграде увлекались сюжетным стихом и Киплингом» [Шкловский 1966: 370]. Интерес к творчеству «певца британского империализма» пережил революцию и, вопреки очевидной противоположности политических взглядов, воплотился в неоромантическом колониалистском пафосе строителей коммунизма на юго-восточных рубежах советской империи. Парадоксальный статус Киплинга в советской критике уже стал предметом изучения [Пичугина, Поплавская 2015: 136–146]. Один из наиболее глубоких и в то же время тенденциозных знато- ков английской и русской литературы своего времени Д. С. Святополк-Мирский писал: «Сочетание лиризма с конкретной современной тематикой, взятой из областей, прикрытых ранее флером идеализации или простого незнания (ни один из значительных буржуазных писателей не был сколько-нибудь близко знаком с колониальной действительностью), умение черпать лирическое содержание в предметах, лишенных, по представлению буржуазной эстетики, благородства и поэзии, – таковы несомненные качества лучших баллад раннего Киплинга. Но даже в лучших его вещах он лишен человеческой глубины. Он оперирует или простейшими переживаниями, давая их иногда с большой остротой, но не умея углубить их, или основными классовыми страстями в их обнаженной грубости, давая их с большой степенью наготы, но с такой сугубо классовой точки зрения, с какой никакая оценка их невозможна, а возможно только циническое подчинение им» [Мирский 1987: 160]. Но даже «классовая слепота» Киплинга искупалась комплексом свойств, которые новая поэзия приспосабливала для своих целей: «…среди черт, которые с легкостью переносились в советский контекст, были киплинговская прямота и пристрастность. <…> Он, как и многие советские поэты, поддерживал ценности коллективизма, беззаветной преданности благородной идее, исполнения долга. Киплинг славил технологический прогресс, среди его героев были инженеры, деятельные натуры – те, кто добивается результата» [Hodgson 1998: 1061]. Еще одним востребованным в России свойством поэзии Киплинга была ее «универсальность»: она не ассоциировалась с определенным узнаваемым социальным или интеллектуальным кругом, поэт обращался к читателю не как представитель какой-либо группы или направления. «Этот голос мог служить образцом того, в чем после революции и гражданской войны остро нуждалось общество, – он говорил от имени коллектива, объединенного общими ценностями» [там же]. И если у Киплинга пространством манифестации общих ценностей оказывается колониальный Восток, то «Индией» и «Бирмой» в отечественной поэзии 20-х и 30-х становятся южные и юго-восточные окраины формирующейся новой империи.
Весной 1930 г. создается первая «туркестанская бригада» советских писателей, представляющих «Известия» и Гослитиздат. Освещать посевную кампанию направились в том числе два ярчайших представителя русского поэтического неоромантизма – В. А. Луговской и Н. С. Тихонов. «Это было время действительно замечатель- ное – время первой большевистской весны, в условиях среднеазиатских республик, в условиях ожесточенной классовой борьбы, байских террористических актов, борьбы за колхозы» [Лугов-ской 1989: 380]. Пафос борьбы как нельзя более точно соответствовал существеннейшим чертам неоромантической «дискурсивной формации»: тяга к стилизации, использование «парадоксального принципа остранения» в повествовании, ирония и оксюморонность, «множественность авторских “я”», тяга к экстремальным ситуациям и трансгрессивным переходам [Липовецкий 2018: 13–18] легко обнаруживаются в дотуркестанском творчестве каждого из «советских Киплингов». Результатом поездки стали опубликованные в 1930 и 1931 гг. книги «Юрга» Н. Тихонова (включавшая «восточные» стихи и баллады 1926–1930 гг.) и «Большевикам пустыни и весны» В. Луговского.
Азиатский фронтир советской цивилизации требует от представителя передового строя того же, чего, по Киплингу, требует колониальный фронтир от представителя цивилизации, – привития «подлинных ценностей». Декларируемое им «бремя белого человека»:
Неси это гордое Бремя –
Будь ровен и деловит, Не поддавайся страхам И не считай обид;
Простое ясное слово
В сотый раз повторяй –
Сей, чтобы твой подопечный
Щедрый снял урожай.
Неси это гордое Бремя –
Воюй за чужой покой –
Заставь Болезнь отступиться
И Голоду рот закрой;
Но чем ты к успеху ближе, Тем лучше распознаешь Языческую Нерадивость, Предательскую Ложь.
Неси это гордое Бремя
Не как надменный король – К тяжелой черной работе, Как раб, себя приневоль;
При жизни тебе не видеть
Порты, шоссе, мосты – Так строй их, оставляя Могилы таких, как ты! [Киплинг 2011: 175]
– становится и бременем советских специалистов, «поднимающих» красный Восток:
Вы, незаметные учителя страны, Большевики пустыни и весны!
Идете вы разведкой впереди, Работы много – отдыха не жди. Работники песков, воды, земли,
Какую тяжесть вы поднять могли!
Какую силу вам дает одна –
Единственная на земле страна!
[Луговской 1988: 270]
«Подобно киплинговским колониальным чиновникам, они напряженно трудятся вдали от дома, во враждебном окружении. Они так же обязаны жить согласно высоким идеалам.Люди, которым они помогают, по большей части молчаливы, пассивны и зачастую вообще не изображаются» [Hodgeson 1998: 1070]. Для обоих сборников действительно характерно отсутствие индивидуализированных черт в изображении местного населения или врагов. Роль Другого, скорее, выполняет пространство, подвергающееся культивации, а герой-строитель совершает над ним демиургический творческий акт:
Пустыня била ветром в берега,
Она далеко чуяла врага,
Она далеко слышала врагов –
Удары заступа
И шарканье плугов.
Пустыня зыбилась в седой своей красе.
Шел по округе
Большевистский сев.
[Луговской 1988: 267–268]
Прогресс как противостояние стихии и техники представлен в стихотворении Н. Тихонова «Весна в Дейнау, или ночная пахота тракторами “Виллис”», где «вся тракторная база / Свергает власть оскаленных пустынь» [Тихонов 1981: 181]. Сам же покоритель фронтира в стихотворении «Фининспектор в Бухаре» оказывается не воином, а администратором, вызывающим своей силой и мудростью зависть самого Тимура:
Не облако зноя,
Не ветер великий весною,
То мчится инспектор, трубку сосет,
Топчет ковер тишины,
Как будто луна с небывалых высот
Упала в доход казны.
[там же: 189–190]
Героический пафос и романтическое упоение стихиями, впрочем, не вполне соответствовали представлениям литературных идеологов о том, как надо изображать происходящее на южных окраинах страны. Буквально накануне роспуска РАППа Луговской вынужден был выступить на поэтическом совещании с «признанием ошибок», допущенных в книге «Большевикам пустыни и весны»: «Я буду говорить о серьезнейших недостатках книги “Большевикам пустыни и весны”. Этих недостатков в основном три.
Первый недостаток заключается в том, что в этой книге еще слабо отражается классовая борьба. Более или менее четкой партийной постановки вопроса о классовой борьбе в Средней Азии (а это был ожесточенный период классовой борьбы) в этой книге нет.
Затем я взял пустыню как стихию. Вот это стихийничество еще гуляет по книжке “Большевикам пустыни и весны”.
Наконец, третий недостаток книги заключается в том, что большевики пустыни и весны воспринимаются мной преимущественно как пришедшие в Среднюю Азию извне. У меня дан недостаточно четко массовик – туркмен и узбек в обстановке Средней Азии» [Луговской 1989: 381].
Работа над ошибками началась незамедлительно: вторая туркестанская книга Луговского (1933 г.) открывается романтической исповедью «Сын кулябского нищего», где герой стихотворения, в 20-м году примкнувший к отряду «великого Фрунзе», занят борьбой с классовым врагом и мечтает о партийной учебе:
Но славная Красная Армия глаза мои открывала,
Она по тропинкам грамоты упорно меня вела –
И вывела именем Партии, к высокому перевалу, Откуда Ленин увидел невиданные дела.
Смотри – наступает утро.
Походный костер погас.
Мы окружим последних, и я уеду учиться.
Прощай, дорогой товарищ, слушавший мой рассказ!
Наша огромная Партия сыновей своих помнит и знает.
Я – скромный работник Партии, я – поле перед дождем.
Но если ученье Ленина человека перерождает, – Я, сын кулябского нищего, был перерожден.
[Луговской 1988: 310, 311–312]
Так же – в форме, близкой к исповеди, но на этот раз старого басмача, – строится центральная часть поэмы «Дангара» (1934 г.). Ее главное достоинство Д. С. Святополк-Мирский видит в том, что «Луговской решительно отходит в ней от господствующих в нашей повествовательной поэзии лирического или орнаментально-образного стиха и стремится к созданию чисто эпического стиля, “в лоб”, “по-прозаически” подходящего к сюжету. Несомненно, что такой стиль глубоко созвучен духу социалистического реализма» [Мирский 1987: 302]. Добавим, что названные критиком стилистические черты, «созвучные духу социалистического реализма», в не меньшей степени соответствуют духу неоромантических баллад Киплинга.
Таким образом, из соединения неоромантической стилистики с актуальным вариантом господствующей идеологии к началу 30-х гг. в советской поэзии складывается особый тип ориентального фронтирного дискурса, утрачивающего свою злободневность по мере модернизации советского фронтира. К середине 30-х перестают издаваться и книги стихотворений Киплинга, а его творчество начинает оцениваться как безоговорочно декадентское, «империалистическое», классово враждебное. В конце десятилетия военные и политические события на Западе почти полностью перекрывают интерес к ориентальной тематике. Одним из немногих исключений может считаться поэма К. Симонова «Далеко на Востоке» (1939– 1941 гг.), посвященная военному конфликту на Халхин-Голе. При очевидной ориентации автора на киплинговские образцы экспансионистский цивилизаторский пафос покорителя фронтира в конце 30-х вытесняется из советской поэзии социально более приемлемыми формами «лирического патернализма»: «Предвоенные стихи Симонова – имперские и экспансионистские, но стремление к экспансии переживается в них как готовность защитить все слабое и безвестное <…> Герой Симонова – солдат и поэтому – мужчина. Симонов вернул герою советской поэзии не просто гендерную принадлежность, но и специфически мужское чувство телесного преодоления физических испытаний. Официально одобренные империалистические амбиции оправдывали “ползучее” возвращение в лирику Симонова мужских привязанностей и интересов …» [Кукулин 2014: 17].
В броневом стекле вниз и вверх метались холмы.
Не было больше ни неба, ни солнца, только узкий кусок земли, в которую надо стрелять, только они и мы.
Только мы и они, которых надо вдавить в этот песок.
– За Родину – значит за наше право раз и навсегда быть равными перед жизнью и смертью, если нужно – в этих песках.
За мою мать, которая никогда не будет плакать, прося за сына, у чужеземца в ногах.
– За Родину – значит за наши русские в липах и тополях города, где ты бегал мальчишкой, где, если ты стоишь того, будет памятник твой.
За любимую женщину, которая так горда, что плюнет в лицо тебе, если ты трусом вернешься домой.
[Симонов 1979: 480–481]
Для советского танкиста уничтожение врага становится средством завоевания не территории, но расположения любимой женщины. Характерно также «сужение перспективы» – подмена идеологических абстракций интимным пространством личной истории. Перевод имперского героического дискурса в гендерное русло происходит повсеместно и находит отражение, например, в специфическом лиризме песни на стихи А. Д’Актиля «Принимай нас, Суоми-красавица».
С началом Великой Отечественной войны колониальная героика естественным образом уходит из советской поэзии. Уходит и ее ролевая модель – киплинговский герой, что становится предметом рефлексии в воспоминаниях того же К. Симонова: «Кстати сказать, в первый же день на фронте в 1941 году я вдруг и навсегда разлюбил некоторые стихи Киплинга, которые очень долго и очень упорно любил, любил еще на Халхин-Голе. Киплинг и после 41-го года не перестал для меня существовать как интересный поэт, многие стихи которого мне продолжают нравиться.
Но киплинговская военная романтика, все то, что, минуя существо стихов, подкупало меня в нем в юности, вдруг перестало иметь какое-либо отношение к той войне, которую я видел, и ко всему тому, что я испытал. Все это в 41-м году вдруг показалось далеким, маленьким и нарочито напряженным, похожим на ломающийся мальчишеский бас» [Симонов 1985: 29].
Возникший в советской поэзии образ покорителя-цивилизатора азиатского фронтира оказался недолговечен как в силу исторических, так и идеологических причин. Установление новой власти и колхозного строя на южных окраинах СССР и начало войны лишили его актуальности. К тому же неоромантический герой-индивидуалист, противостоящий в первую очередь стихиям, а не классовому врагу, не соответствовал идеологическому стандарту строителя коммунизма. Именно последнее обстоятельство помешало мифологизации этого образа в массовом сознании, в отличие от стахановцев, челюскин- цев, метростроевцев, папанинцев, хетагуровок и прочих коллективных героев советской эпохи. Сам же Киплинг, чья поэзия оказала едва ли не определяющее воздействие на формирование ориенталистского дискурса в русской поэзии 30-х гг., был на несколько десятилетий вычеркнут из отечественного культурного контекста.
Associate Professor in the Department of Russian and Foreign Philology
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs
ResearcherID: C-7515-2019
Submitted 24.10.2019
Список литературы Герой азиатского фронтира в советской поэзии конца 20-30-х годов
- Киплинг Р. Избранные стихи из всех книг / сост., ред. новых переводов, послесл. и примеч. В. Бетаки. Б.м.: Salamandra P. V. V., 2011. 331 c.
- Кукулин И. В. Лирика советской субъективности: 1930-1941 // Филологический класс. 2014. № 1(35). С. 7-19.
- Липовецкий М. Н. Неоромантизм в русской поэзии XX-XXI веков: смысл и границы понятия // Филологический класс. 2018. № 1(51). С. 13-18.
- Луговской В. А. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1: Стихотворения / сост. и подгот. текстов Е. Быковой-Луговской; вступ. ст. И. Л. Гринберга. М.: Худож. лит., 1988. 477 с.
- Луговской В. А. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3: Поэмы; Проза / сост. и подгот. текстов Е. Быковой-Луговской. М.: Худож. лит., 1989. 525 с.
- Мартынов И. Ф. Киплинг и Гумилев - поэты двух империй. К вопросу о судьбе поэтического наследия Р. Киплинга в России // Вестник русского христианского движения. 1987. № 3(151). С. 166-189.
- Миллер Ф. Сталинский фольклор / пер. с англ. Л. Н. Высоцкого. СПб.: Академ. проект; Издательство ДНК, 2006. 190 с.
- Мирский Д. П. Статьи о литературе / вступ. ст. Н. Анастасьева; сост. и коммент. М. Андронова. М.: Худож. лит., 1987. 303 с.
- Пичугина В. С., Поплавская И. А. Творчество Д. Р. Киплинга в рецепции русских писателей и критиков первой половины XX в. // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. Вып. 6(38). С. 136-146.
- Симонов К. М. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 1: Стихотворения. Поэмы. Вольные переводы / вступ. ст. Л. Лазарева; коммент. А. Александровой. М.: Худож. лит., 1979. 670 с.
- Симонов К. М. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 10: Далеко на Востоке (Халхин-Гольские записки). Япония-46. Воспоминания / подгот. текста и примеч. Л. Лазарева. М.: Худож. лит., 1985. 624 с.
- Шкловский В. Б. Жили-были: воспоминания, мемуарные записи, повести о времени: с конца XIX в. по 1964 г. М.: Сов. писатель, 1966. 552 с.
- Эткинд А. Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // Новое лит. обозрение. 2003. № 1(59). С. 103-124.
- Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое лит. обозрение, 2013. 448 с.
- Hodgeson K. The Poetry of Rudyard Kipling in Soviet Russia // The Modern Language Review. 1998. № 4 (Vol. 93). P. 1058-1071.