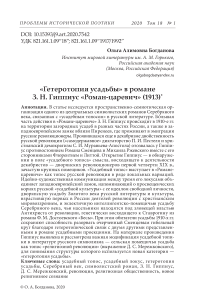"Гетеротопия усадьбы" в романе З. Н. Гиппиус "Роман-царевич" (1913)
Автор: Богданова Ольга Алимовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.18, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется пространственно-семиотическая организация одного из центральных символистских романов Серебряного века, связанная с «усадебным топосом» в русской литературе. Бо́льшая часть действия в «Романе-царевиче» З. Н. Гиппиус происходит в 1910-е гг. на территории загородных усадеб в разных частях России, а также в западноевропейском замке вблизи Пиренеев, где проживают в эмиграции русские революционеры. Проявившаяся еще в декабризме двойственность русской революции («самодержавное» диктаторство П. И. Пестеля и христианский демократизм С. И. Муравьева-Апостола) отозвалась у Гиппиус противостоянием Романа Сменцева и Михаила Ржевского вместе с его сторонниками Флорентием и Литтой. Открытие Гиппиус - в обнаружении в поле «усадебного топоса» смысла, восходящего к деятельности декабристов - дворянских революционеров первой четверти XIX в., зачастую крупных помещиков. «Усадебный топос» выступает в «Романе-царевиче» как топос русской революции в ряде локальных вариаций. Идейно-художественная коммуникация между тремя его локусами объединяет западноевропейский замок, напоминающий о просвещенческих корнях русской «усадебной культуры» с ее идеалом свободной личности, дворянскую усадьбу Золотого века русской литературы и культуры, взрастившую первых в России деятелей революции с христианским мировоззрением, и эклектичную интеллигентско-помещичью усадьбу Серебряного века, чьи насельники находятся под зловещей властью Антихриста от революции, генетически восходящего к Ставрогину из романа Ф. М. Достоевского «Бесы». При этом обитатели усадьбы 1910-х гг. сохраняют способность разорвать очерченный Сменцевым гибельный круг благодаря гетеротопической связи с двумя другими представленными в романе усадебными проекциями. На материале произведения Гиппиус выявлена и рассмотрена важная модификация усадебной топики в литературе русского символизма - сельская помещичья усадьба как топос «религиозной революции» (выражение Д. С. Мережковского), для понимания структуры которого используется новая категория - «гетеротопия усадьбы».
Усадебный топос, усадебный локус, гетеротопия усадьбы, серебряный век, символистский роман, з. н. гиппиус, д. с. мережковский, революция, религиозная общественность, новое религиозное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/147226244
IDR: 147226244 | УДК: 821.161.1.09“18”; | DOI: 10.15393/j9.art.2020.7542
Текст научной статьи "Гетеротопия усадьбы" в романе З. Н. Гиппиус "Роман-царевич" (1913)
Первые десятилетия XX в. — время заметных трансформаций в «усадебном топосе» русской литературы, в том числе в произведениях, относящихся к ведущему художественному направлению Серебряного века — символизму. Именно тогда, после десятилетий деградации и структурной перестройки в результате крестьянской и земской реформ 1860-х гг., помещичья усадьба стала оживать, развиваться и приобретать более серьезную роль в социально-экономической и в культурно-художественной жизни страны. Так, Л. В. Иванова пишет о возрождении на новой основе помещичьих хозяйств после революции 1905–1907 гг., когда происходило увеличение фонда помещичьей земли, использования наемного труда, торгового оборота. Многие усадьбы в эти годы открывали свои музеи, библиотеки, коллекции и архивы для общества. Владельцы стремились сохранить традиции старинной дворянской усадьбы (см.: [Дворянская и купеческая сельская усадьба…: 511]). Ю. Н. Шорин отмечает, что в 1910-е гг., наряду с осознанием значимости традиционных культурных ценностей, в усадебный быт стали входить многочисленные новации: занятия спортом (футбол, крокет, вольная борьба, плавание, гимнастика), модернизация быта (электричество, водопровод, канализация и т. п.) и культурных моделей поведения (стремление вписаться в окружающее социальное пространство — открытость местному социуму, как крестьянскому, так и разночинному, активное участие в органах местного самоуправления) (см.: [Шорин: 471, 473]). По наблюдению М. В. Нащокиной, «…на фоне, казалось бы, неизбежного заката помещичьей культуры в конце XIX — начале XX в. появились и признаки ее возрождения в новых экономических и культурных координатах. Количество ухоженных, благоустроенных усадеб вновь стало увеличиваться», и «тысячи усадеб в самых глухих “медвежьих” углах русской провинции продолжали оставаться в конце XIX — начале XX в. своего рода посланцами современной культуры» [Нащокина: 11–12, 14]. Отметив расширение социального состава усадьбовладельцев, та же исследовательница констатирует: «…утратив дворянскую сословную принадлежность, усадьбы стали важной частью жизни огромного числа образованных русских людей — выходцев из всех слоев общества» [Нащокина: 16]. И заключает: «Именно к Серебряному веку относится своеобразная общественная канонизация русской усадьбы как средоточия семейных ценностей, всех сторон русской культуры и воплощения национального понимания красоты. Тогда усадьба впервые была глубоко осмыслена как сложная синтетическая целостность, вобравшая в себя особенности национального мировоззрения и уклада жизни, очарование русского пейзажа и разнообразие искусств и ремесел…» [Нащокина: 116].
Итак, русская сельская помещичья усадьба 1910-х гг., с одной стороны, сохраняет глубокую преемственность традициям Золотого века русской «усадебной культуры», первой трети XIX столетия, с другой — в процессах экономической, социальной и нередко художественно-стилевой модернизации настойчиво вовлечена в свою современность. Тем не менее в литературе Серебряного века четко различаются две тенденции в изображении усадебной жизни: описанная выше пассеистическая, неомифологическая, восходящая к эдемскому архетипу Золотого века, и критическая, продолжающая линию Н. В. Гоголя, А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина, включающая в себя негативные коннотации усадьбы в социально-психологическом, эстетическом и цивилизационном планах. Симптоматично, что негативные аспекты рецепции «усадебной культуры» в Серебряном веке связаны не только с ее традиционной социально-психологической критикой, характерной еще для крепостнического времени, но в первую очередь — с критикой эстетической, вытекающей из главной тенденции русской культуры начала XX в. — «панэстетизма» (см.: [Минц: 59–96]). В трактовке ряда писателей этой эпохи ставится под сомнение или даже отвергается идеализация Золотого века «усадебной культуры», который в веке Серебряном претендовал, по мысли М. В. Нащокиной, на роль «национального идеала» [Нащокина: 116]. Так в их произведениях возникает полемический образ «незолотой старины»1, представленный в поэзии Н. С. Гумилева, прозе Г. И. Чулкова, А. Н. Толстого и др.
В литературе этого периода усадьба нередко является не просто местом действия, но активной средой, во многом формирующей и определяющей психологию, мировоззрение и тип поведения персонажей. Достаточно вспомнить «Серебряного голубя» Андрея Белого, «Творимую легенду» Федора Сологуба, цикл «Заволжье» Алексея Толстого, рассказы и повести И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, М. М. Пришвина и мн. др. Среди авторов, уделявших серьезное внимание русской усадьбе в 1900–1910-е гг., можно назвать и З. Н. Гиппиус (см. подробнее: [Glukhova: 178–186]).
Для понимания специфики «усадебного топоса» в символистском романе Гиппиус целесообразно ввести понятие «гетеротопии усадьбы»2. В гуманитарных исследованиях начала XXI в., отмечает Д. Бахманн-Медик, «пространственная оптика охватывает <…> также пространства, которые определяются уже не только реально — территориально и физически — и уже не только символически, но являются и тем и другим одновременно» [Бахманн-Медик: 353], поэтому их, вслед за Мишелем Фуко, точнее всего назвать гетеротопиями, в которых, по мысли французского философа, явления «<…> “положены”, “расположены”, “размещены” в настолько различных плоскостях, что невозможно найти для них пространство встречи, определить общее место для тех и других» [Фуко, 1977: 34]. Понятие гетеротопии было сформулировано Фуко в 1967 г. в докладе «Другие пространства»: «Пространство, где мы живем <…> является <…> гетерогенным. <…> мы живем в рамках множества отношений, определяющих местоположения, не сводимые друг к другу и совершенно друг на друга не накладывающиеся. <…> Эти местоположения, являющиеся как бы пространствами, находящимися в связи со всеми остальными и, однако же, противоречащими всем остальным местоположениям, делятся на два основных типа» — утопии и гетеротопии [Фуко, 2006: 191–195]. В отличие от утопий, геторотопии, по Фуко, это «реальные, подлинные места, места, вписанные в конкретные общественные институты, но служащие своего рода “контрместоположениями”, своего рода фактически реализованными утопиями, в которых реальные местоположения, все остальные реальные местоположения, какие можно найти в рамках культуры, сразу и представляются, и оспариваются, и переворачиваются: места, находящиеся за пределами всех остальных мест, хотя, несмотря на это, они фактически локализуемы» [Фуко, 2006: 196]. Гетеротопия, продолжает философ, «имеет свойство сопоставлять в одном-единственном месте несколько пространств, несколько местоположений, которые сами по себе несовместимы» — «возможно, самым древним из примеров этих гетеротопий, имеющих форму противоречащих друг другу местоположений, является сад»: «В своих древних основах сад представляет собой своеобразную счастливую и универсализирующую гетеротопию <…>» [Фуко, 2006: 200]. Сад же, как мы знаем, один из важнейших элементов «усадебного топоса».
Суть гетеротопий, значимую для Фуко, сформулировал российский философ В. А. Подорога: «Гетеротопические пространства — пространства совмещения несовмещаемого <…>. Если жизненное пространство в состоянии себя воспроизводить и развивать, то это значит, что его гетеротопическая структура устойчива и эффективна» [Подорога]. Особенно важно для понимания специфики «усадебного топоса» в рассматриваемом нами символистском романе то обстоятельство, что в гетеротопиях преодолевается «принцип бинарности и задаваемых, постоянно и целенаправленно продуцируемых <…> моделей и способов поведения, организации мира» [Шестакова: 65]. В самом деле, в «гетеротопии усадьбы» у Гиппиус намечается путь к иной «организации мира», хотя и соотносимой с прежними моделями.
Большая часть действия в романе писательницы «Роман-царевич» (1913) происходит в 1910-е гг. на территории и в интерьерах загородных усадеб в разных уголках России — Стройке Новгородской губернии и Пчелином Воронежской губернии, а также в западноевропейском замке вблизи Пиренеев, где проживают в эмиграции русские революционеры. Так что топос усадьбы представлен в этом произведении в трех вариациях, трех локусах, тесно связанных с готовящейся в России, по мысли автора, революцией. Последовательно остановимся на каждом из них.
Начинается роман с описания жизни хозяев и гостей в недавно устроенном поместье петербургского инженера-архитектора Алексея Хованского под неблагозвучным названием Стройка. Такие усадьбы в заметном количестве возводились в 1910-е гг. по всей России. Их отличительные особенности: расположение неподалеку от железнодорожной станции; причудливая архитектура — стилизация одновременно под английский викторианский коттедж и французский средневековый рыцарский замок (см.: [Нащокина: 191–229, 268–327]); наличие современных бытовых удобств — водопровода, электричества и т. д.; функциональная приближенность к даче — отсутствие «порядочного» хозяйства, сезонное проживание владельцев. Автор подчеркивает, что имение без истории, старины — «нелепое», «глупое», «неудобное и холод-ное»3. Такое поместье мало соотносится с формирующимся в эти годы «усадебным мифом» как идеализацией Золотого века «усадебной культуры», тесно связанного с классицистическими и ампирными дворянскими усадьбами первой трети XIX столетия, в том числе декабристскими.
Тем не менее парк с аллеей к озеру и контакты с близлежащей деревней, воспитание малолетних детей в сельском семейном доме, долговременное проживание гостей, родственников и друзей сближают жизненный уклад Стройки с традиционным усадебным. Так, вся семья и гости собираются за трапезой на террасе для продолжительных разговоров как на бытовые, так и на отвлеченные темы — о политике, религии, революции, судьбе России. В аллеях парка завязываются романы — между Сменцевым и Литтой, Хованским и Габриэль. Помещичий сын Витя получает жизненные уроки и взрослеет, преодолевая болезненные отроческие огорчения.
И все же определяющая атмосфера Стройки у Гиппиус — «тоска», «скука унылая», «серые, цепкие, мокрые» «лапки» тумана (289, 294), лезущие снаружи в окна усадебного дома.
Кругом — «грязны[е]4 болотисты[е] леса», «[б]лижняя деревня, пьяная, убогая, — в двух верстах», «[с]танция захудалая» (285–286). Встреченные деревенские жители — отнюдь не носители вековой народной мудрости, как это было в русской «усадебной» классике (у А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и др.), а наоборот — находятся в духовном обольщении «человекобожества», как на икону крестясь на одного из революционных руководителей Сменцева, по замыслу Гиппиус — нового Ставрогина, воплощения Антихристова начала.
Гостящая у Хованских юная родственница Литта Двоеку-рова отчетливо формулирует двойственное впечатление от Стройки: «…дом какой-то ни на что не похожий, и Хованские оба — горожане, всему чужие; но ведь озеро-то и березки — они настоящие, и сирень, и болотца…». А мужик — или «постоянно пьяный» (291), или вызывающий «[н]еприязнь и чуждость» (295) из-за слепого поклонения Сменцеву. Присутствие последнего как бы накладывает на усадьбу темную, зловещую тень, омрачает ее пространство сыростью и мшистостью, делает ареной двусмысленных манипуляций, вовлекает в гибельный для большинства героев «человекобожеский» план властолюбивого Романа-царевича.
Однако приезд другого революционного деятеля — Фло-рентия — кардинально меняет восприятие Стройки: здесь появляются простота и веселье, радостный бег по аллее, долгие прогулки и пикники в лесу с кострами, грибами, песнями над озером, чувство родственного тепла, подлинной семейственности, братства, открывается глубокая, искренняя вера в Бога, во Христа. Комната Литты в присутствии Флорентия уже не пустынное помещение с «мертвым окном» (294), а «бел[ая], просторн[ая]», с уютной оттоманкой и яркой лампой, где они вместе «разбира[ют] травы, цветы, грибы» (336). Здесь, как когда-то в усадьбах декабристов — Трубецких, Волконских, Муравьевых, Фонвизиных, Раевских-Давыдовых, происходят важные разговоры о стратегии и тактике революционного движения по освобождению родины от самодержавия.
В качестве исторического прототипа можно, к примеру, вспомнить Каменку, которая вошла «в историю заговора декабристов прочным и неотъемлемым звеном» и стала «одним из географических центров политической оппозиции первой четверти XIX века» [Гессен: 191]. Владелец Каменки, входившей тогда в состав Чигиринского уезда Киевской губернии, В. Л. Давыдов был среди главных деятелей Союза благоденствия, а затем и Южного тайного общества. Именно тогда усадьба «превратилась в один из штабов заговора. Обыкновенно всякий год <…> вожди Южного общества собирались под гостеприимный кров Каменки, обстановка которой как нельзя лучше удовлетворяла требованиям конспирации. Маскируясь участием в каменских развлечениях, заговорщики обсуждали там узловые вопросы их заговорщицкой деятельности» [Гессен: 194]. Именно в пространстве «богатой дворянской усадьбы, с внушительным “барским” домом, флигелем для молодежи и гостей, роскошным садом, увеселительным гротом» [Гессен: 191] зрели идейные столкновения «христианских демократов» С. И. Муравьева-Апостола и М. П. Бестужева-Рюмина, с одной стороны, и авторитарного «диктатора» П. И. Пестеля — с другой, отчасти воспроизведенные Гиппиус в противостоянии Флорентия и Литты — Сменцеву. По мысли Мережковских, и государственное самодержавие, и самовластье революционного «диктатора» одинаково порождают «человекобожеское» идолопоклонство. Недаром Сменцев — потомок декабриста, внук барона А. Е. Розена, связанного с Северным тайным обществом, где революционное «главарство» (442) и атеизм характеризовали многих.
В то же время, писал Мережковский, именно «герои Четырнадцатого» [Мережковский, 1917] были первыми деятелями революции, провозгласившей в «Катехизисе» С. И. Муравьева-Апостола, прочитанном восставшему Черниговскому полку, «великую мысль» — «соединить Христа с вольностью»5. Сохранившиеся письма Муравьева-Апостола свидетельствуют «о сильных религиозных чувствах, свойственных декабристу, и <…> сплавившихся с революционным воззрением» [Эйдельман: 360]. В документальном повествовании «Апостол Сергей…» историк приводит выдержки из сочиненного Муравьевым-Апостолом «Православного катехизиса»:
« Вопрос . Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству?
Ответ . Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться: да будет всем един царь на небеси и на земле Иисус Христос»6.
Что касается революционеров начала XX в., то, разуверившись после опыта 1905–1907 гг. в атеистической социал-демократии, они должны, считают Мережковские, вернуться к заветам декабристов-христиан — и традиционный усадебный симбиоз дворянства и народа, освященный общей верой в Бога, в новом качестве восстановится в «религиозной общественности» 1910-х гг. Таким образом, символично само название Стройка . В самом деле, происходит не реставрация, а мучительное, ценой проб и ошибок, становление нового революционного движения, «революционного христовства»7, в которое приходят люди из других социальных слоев — купечества, интеллигенции (Флорентий, Михаил Ржевский). А потомок дворян-аристократов Сменцев оказывается ренегатом, отступником от лучшего в учении декабристов — и должен быть сменен их настоящими идейными наследниками.
Чтобы отчетливее понять глубинную связь «усадебного топоса» и русской революции в этом романе Гиппиус, сделаем краткий экскурс в революционную мифоидеологию Мережковских первых десятилетий XX в. (подробнее см.: [Богданова, 2017: 172–189], [Кошарный: 96–111]). Во-первых, подлинная русская революция, по их мнению, должна быть не сугубо политической, а религиозной — соединением вольности с Богом, но не тем Богом, Которого предлагает верующим «историческое христианство», в частности Русская православная церковь, а Грядущим Христом «нового религиозного сознания» и «религиозной общественности». Само словосочетание «религиозная революция», впервые появившееся в статье «Революция и религия» (1907) [Мережковский, 2004: 178, 190, 211 и др.], получило широкое распространение в среде русской интеллигенции, в том числе религиозно-философской (у Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и др., полемизировавших в печати, в том числе в «Вехах», с «религиозным революционаризмом» [Бердяев: 19] Мережковского). Во-вторых, «религиозная революция» допускает насилие, или «кровь по совести» (по выражению героя «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского), в присущем новообъявленной «религиозной общественности» стремлении сочетать христианскую святость с террористическим «бомбизмом». При этом действует формула «нельзя и надо», подразумевающая одновременную нежелательность «крови» и ее допустимость при переходе из Царства необходимости в Царство свободы. В 1907–1914 гг. подолгу живя в Париже, Гиппиус и Мережковский сблизились там с эсеровско-террористической эмиграцией, прежде всего с ее главой Б. В. Савинковым, которого достаточно успешно стремились приобщить к религии (см.: [Гончарова: 15–20]). В-третьих, наряду с обожествлением монархов, полностью отрицается и «народобожие». По Д. С. Мережковскому, «религиозная правда народа — христианство восточное, созерцательное — правда мира нездешнего», «чувство свободы человеческой <…> в этой правде отсутствует» [Мережковский, 1996a: 541]. Четвертый важнейший тезис революционных воззрений четы Мережковских — абсолютное отрицание самодержавия и православия как взаимообусловленных сил, утверждавших несовместимое с подлинным христианством «человекобо-жество» (см. подробнее: [Мережковский, 2004: 489]). В-пятых, оба признают в русском освободительном движении ведущую роль внесословной интеллигенции как «подлинн[ого] воплощени[я] русского народного сознания и русской народной совести», как «связанн[ой] с народ[ом] руководящ[ей] сил[ы], умственн[ой], нравственн[ой] и общественн[ой]» [Мережковский, 1996b: 489]. Важнейшим в революционной концепции Гиппиус и Мережковского 1910-х гг. является также интерес к декабризму как к прямому предшественнику выдвигаемого ими идеала свободы со Христом, или «религиозной общественности». «Подлинный “авангард русской революции”, — писал Мережковский в 1917 г., — не крестьяне, не солдаты, не рабочие, а <…> герои Четырнадцатого и мы, наследники их — русские интеллигенты…», т. е. «революционная аристократия» как власть «лучших людей»
народа; русские интеллигенты — «“декабристы” вечные — вечные стражи революционного сознания, революционной свободы и революционной личности», восстающие против всех видов «самодержавия» — царского, вождистского, народного (см.: [Мережковский, 1917]).
Проявившаяся еще в декабризме двойственность русской революции («самодержавное диктаторство» П. И. Пестеля и христианский демократизм С. И. Муравьева-Апостола) откликнулась в произведении Гиппиус противостоянием Романа Сменцева и Михаила Ржевского вместе с его сторонниками Флорентием и Литтой. Так что отнюдь не случайно художественное пространство в этом политическом романе материализуется прежде всего в «усадебном топосе» как носителе многообразных культурно-исторических смыслов. Открытие Гиппиус состоит в обнаружении в семантико-семиотическом поле «усадебного топоса» смысла историко-революционного, восходящего к деятельности дворянских революционеров, аристократов, зачастую крупных помещиков. Итак, «усадебный топос» в «Романе-царевиче» открыто выступает как один из топосов русской революции в ряде локальных вариаций.
Попутно отметим, что предшественниками Гиппиус в подобной подаче усадебного пространства можно назвать Ф. М. Достоевского как автора романа «Бесы» (1872) и И. С. Тургенева как автора романа «Новь» (1876). Имеется в виду, во-первых, усадьба Ставрогиных Скворешники — место проживания «Ивана-царевича» от русской революции и арена политического убийства предполагаемого провокатора Шатова. В романе Гиппиус настойчиво, даже навязчиво звучат ассоциации Сменцева со Ставрогиным, вновь ставится проблема аристократа в революции, в связи с чем и актуализируется «усадебный топос». Во-вторых, вспоминается и усадьба Маркелова Борзёнково8, ставшая настоящим штабом подпольной народовольческой организации. Обе усадьбы в качестве локусов революции поданы писателями в негативном ключе, так что отталкивание Гиппиус — поборницы иной, религиозной, революционности — от указанных прецедентов закономерно: ее Ставрогин становится Сменцевым, т. е. должен быть сменен новыми деятелями, выходцами из других социальных слоев России. Кроме того, произведение Достоевского зеркально отражается в ситуации политического убийства в романе Гиппиус: теперь жертвой становится не близкий к народу разночинец, а сам главарь-аристократ.
Далее обратимся ко второму «усадебному локусу» в «Романе-царевиче» — Пчелиному, — который, думается, не случайно расположен далеко к югу от северной Стройки. Оба локуса ассоциируются с Южным и Северным тайными обществами 1825 г. И если в Северном дух монархизма как диктаторства и возвеличения человека над человеком не был преодолен, то члены Южного как раз и провозгласили единственным царем для равных между собой людей Христа. Открытое, степное воронежское Пчелиное становится в романе «мужичьим университетом», где новая интеллигенция и крестьянство по-братски сливаются в «религиозной общественности». В отличие от Стройки, Пчелиное — старинная усадьба, выстроенная в стиле классицизма, родовое гнездо декабриста, кровным наследником которого является Роман Сменцев, а идейнодуховными — Флорентий и Литта. Усадьба состоит из главного дома, в котором живут Сменцев и Литта, расположены библиотека, типография, переплетная, и флигелей, где устроены школа для окрестных крестьян и кухня. Территория усадьбы отделена рекой от большого села с каменной церковью, рядом с ней — небольшой хутор из двадцати изб, видимо когда-то принадлежавших помещичьей дворне. Большого хозяйства в усадьбе нет, главное для ее владельца и его гостей-интеллигентов — религиозно-революционная работа среди простого народа, которая для не верующего в Бога Сменцева является средством собственного обожествления, а для искренне верующих Флорентия и Литты — подлинно христианским подвижничеством.
Флорентий, задуманный автором как истинный наследник дворянской революционности в духе С. И. Муравьева-Апостола, подобно прежним просвещенным помещикам, живет в Пчелином постоянно, круглый год. Литта и Сменцев после заключения фиктивного брака приезжают туда в интересах «дела» зимой. Именно здесь для товарищей окончательно проясняется «самодержавная» сущность Романа Ивановича, на деле не имеющего ни веры, ни убеждений, кроме безудержной воли к власти. Оберегая первые ростки «революционного христовства»: складывающееся равенство между получающими образование «мужиками» и интеллигентами, носителями «нового религиозного сознания», — Флорентий при поддержке Литты решается на убийство Сменцева — человека, который «себя на место Божье ставит» (487). Симптоматично, что сговор об устранении «хозяина» происходит на усадебном дворе, а само пролитие «крови по совести» — в одном из флигелей господского дома. Так усадьба становится локусом революционного насилия ради будущего Царства свободы. Как и в Стройке, здесь сосуществуют несовместимые пласты бытия: если в новгородской усадьбе это обывательский гедонизм наряду с деловитостью революционного штаба, то в воронежской — разные изводы революционности: атеистически-«человекобожеская» (только прикрывающаяся новыми религиозными целями) в лице Сменцева, с одной стороны, и «религиозная общественность» в лице Флорентия и Литты — с другой. После смерти Сменцева, которую удалось выдать за несчастный случай, оба героя остаются жить в Пчелином, теперь уже беспрепятственно продолжая дело подлинной революции — с религиозными идеалами, — в которое надеются вовлечь и пока еще колеблющегося Михаила.
С последним связан третий «усадебный локус» романа — заграничный. В приветливом «зáмке» возле Пиренеев, то ли во Франции, то ли в Испании, живут эмигранты — идеологи «религиозной революции» в России: пожилой профессор Дидим Иванович, юноша Орест, Юс, Михаил Ржевский с сестрой Наташей. Возможно, не случайно их постоянное обиталище — «дача с башней» — архитектурно напоминает новгородскую Стройку, однако природа и психологическая атмосфера здесь совсем иные: «бархатная <…> поляна», «бодрые и веселые ивы», завтрак на лужайке «нежн[ым], солнечн[ым] утро[м]» (367–368), уютный чай в «круглой столовой» (375), непринужденная откровенность между обитателями и гостем — приехавшим из Пчелиного Флорентием, — ласковое доброжелательство ко всем. Здесь также ведутся долгие разговоры о стратегии и тактике революционного движения в России, о его новых — народно-религиозных — перспективах. Нелегально проходивший «два месяца <…> странником по русским дорогам», изучавший реальную народную Россию Михаил делится с гостем выстраданным выводом:
«Как земля — нужен Бог, как Бог — земля, Бог — оправдание земли, земля — оправдание Бога. Так я <…> понял; а они в смуте, в обмане, свет нужен — его нет еще» (371).
Россия нуждается в том, кто «свету поможет», «кто верит, как они, и понимает больше, чем они» (371). У самого Михаила понимание есть, но вера народная — «историческое христианство» — видится ему неправильной. Он лишь на пороге «нового религиозного сознания», которым уже овладел Флорен-тий. Открыто обсуждается героями и вопрос о допустимости революционного насилия, убийства во имя высокого идеала.
Итак, «дача с башней» в «милой стране» (368), по-видимому, гораздо более свободной, чем тогдашняя Россия, воспринимается как своеобразная лаборатория революционных идей, с одной стороны, и что-то вроде теплицы для выращивания новых революционных сил — с другой. Именно здесь отдыхают и созревают для деятельности на благо родины, по представлению Гиппиус, брат и сестра Ржевские. Интересно сопоставить пиренейский замок с эмигрантской квартирой Ригелей в Париже, которую посещает Сменцев: если в первом — прочная связь с настоящим и будущим, предчувствие больших целей, широкие перспективы религиозно-революционной работы в России, то во второй люди «как мертвецы» (423) в суете и пустоте бессмысленного существования.
Следовательно, идейно-художественная коммуникация между тремя вариациями «усадебного топоса» в романе Гиппиус объединяет западноевропейский замок, напоминающий о глубинных просвещенческих корнях русской «усадебной культуры» с ее идеалом свободной личности, дворянскую усадьбу Золотого века русской культуры, взрастившую первых в России вестников «свободы с Богом»9, и эклектичную интеллигентско-помещичью усадьбу века Серебряного, чьи насельники находятся под зловещей властью Антихриста от революции с его «мудрым обманом» «для себя <…> одного»
(299, 477). При этом они сохраняют способность разорвать очерченный Сменцевым гибельный круг благодаря гетеротопической связи с двумя другими представленными в романе усадебными проекциями. Важно подчеркнуть, что усадьба в «Романе-царевиче» является топосом особого типа революционности, «религиозной общественности», а не прежней интеллигентско-атеистической революции, которой, по художественной логике Гиппиус, в начале XX в. больше соответствует пространство городских квартир и домов.
Такие места действия, как петербургские и парижские квартиры, московская гостиница, становятся как бы промежуточными звеньями между указанными «усадебными локусами». Пространственная дискретность последних только подчеркивает, доводит до крайней степени гетеротопическое качество представленного здесь «усадебного топоса»: все важное, значительное, судьбоносное в романе порождено именно усадебным пространством. Сложно соотносясь друг с другом, локусы Стройки, Пчелиного и пиренейского «замка» создают единый объемный, как бы трехмерный символистский «усадебный топос» — гетеротопию, в которой взаимообусловлены не совместимые друг с другом пласты: аристократическое, интеллигентское и народное, «человекобожеское» и Богочеловеческое, национальное и универсальное, феноменальное и ноуменальное, обыденное и возвышенное, несовершенное и абсолютное. Именно в усадьбе, и нигде больше, открывается лучшим героям «Романа-царевича» — Флорентию и Литте, да и всей России как мистической сущности, путь к высшему миру:
«Христос Один Твой Властелин, Россия! Россия!
Тебя мы с Ним Освободим,
Россия! Россия!» ( 465 ).
Это песня и народная, и интеллигентская одновременно, ее вместе поют в Пчелином работник Миша и просветитель
Флорентий. Получается, что усадьба — тот единственный топос, где только и возможно органичное соединение народной веры и дворянско-интеллигентской образованности в качественно новом синтезе. Так было в первой трети XIX в., Золотом веке русской культуры, когда усадьба явилась «художественным перекрестком» [Евангулова: 25] европеизированной дворянской и патриархальной крестьянской культур, рождающим лоном для великой русской классической литературы (см. подробнее: [Богданова, 2019: 30–44]), так осталось и на рубеже XIX–XX вв., в веке Серебряном, когда на усадебной почве всходят идеи и появляются герои русской революции, одушевляемой христианским идеалом. Поэтому вполне можно заключить, что «Роман-царевич» Гиппиус в своем роде примыкает к той культурной тенденции Серебряного века, которая возводила русскую помещичью усадьбу Золотого века в ранг «национального идеала» [Нащокина: 116].
Примечания
* Исследование выполнено в ИМЛИ РАН за счет средств гранта Российского научного фонда № 18-18-00129.
-
1 Гумилев Н. С. Старина: Стихотворение (1908) // Гумилев Н. С. Соч.: в 3 т. М.: Худож. лит., 1991. Т. 1. С. 103.
-
2 Эта категория была введена в тезаурус исследований «усадебного текста» в докладе О. А. Богдановой на семинаре «Проблемы тезауруса “усадебных” исследований в российском и зарубежном литературоведении» 9 октября 2018 г. (см. URL: http://litusadba.imli.ru/event/seminar-problemy-tezaurusa-usadebnyh-issledovaniy-v-rossiyskom-i-zarubezhnom-literaturovedenii ), получила теоретическое осмысление в монографии О. А. Богдановой [Богданова, 2019: 10–11], а затем была текстуально применена к творчеству З. Н. Гиппиус в докладе О. А. Богдановой «Художественное пространство в “Романе-царевиче” З. Н. Гиппиус: усадьба как топос религиозной революции» на Международной научной конференции «Круг Мережковских: к 150-летию со дня рождения З. Н. Гиппиус» (Москва, ИМЛИ РАН, 3–5 декабря 2019 г.) и в статье Е. В. Глуховой [Glukhova: 178–186].
-
3 Гиппиус З. Н. Роман-царевич: Роман // Гиппиус З. Н. Опыт свободы. М.: Панорама, 1996. С. 285–286. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
-
4 Здесь и далее в цитатах в квадратные скобки взяты части слов, измененные в падеже или в употреблении строчной и прописной букв по сравнению с оригиналом.
-
5 Мережковский Д. С. 14 декабря: Роман // Мережковский Д. С. Собр. соч.: в 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 4. С. 218.
-
6 Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей: Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле. 2-е изд. М.: Политиздат, 1980. С. 233. (Серия «Пламенные революционеры»).
-
7 Гиппиус З. Н. Письмо к Б. В. Савинкову от 11 (24) марта 1911 г. // «Революционное христовство». Письма Мережковских к Борису Савинкову / вступ. ст., сост., подгот. текстов и коммент. Е. И. Гончаровой. СПб.: Пушкинский Дом, 2009. С. 192.
-
8 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Произведения: в 12 т. М.: Наука, 1981. Т. 9. С. 198.
-
9 Мережковский Д. С. 14 декабря: Роман. С. 221.
Список литературы "Гетеротопия усадьбы" в романе З. Н. Гиппиус "Роман-царевич" (1913)
- Бахманн-Медик Дорис. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре / пер. с нем. С. Ташкенова. - М.: Новое литературное обозрение, 2017. - 504 с.
- Бердяев Н. А. Мережковский о революции // Московский еженедельник. - 1908. - № 25. - 25 июня. - С. 3-19.
- Богданова О. А. "14 декабря" Д. С. Мережковского как роман о русской революции 1917 года // Studia Litterarum. - 2017. - Т. 2. - № 2. - С. 172-189.
- Богданова О. А. Усадьба и дача в русской литературе XIX-XXI вв.: топика, динамика, мифология: монография. - М.: ИМЛИ РАН, 2019. - 288 с.
- Гессен С. Я. Пушкин в Каменке // Литературный современник. - 1935. - № 1. - С. 191-205.
- Гончарова Е. И. "Революционное христовство" // "Революционное христовство". Письма Мережковских к Борису Савинкову / вступ. статья, сост., подг. текстов и коммент. Е. И. Гончаровой. - СПб.: Пушкинский Дом, 2009. - С. 16-33.
- Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI-XX вв.: исторические очерки / отв. ред. Л. В. Иванова. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 784 с.
- Евангулова О. С. Художественная "Вселенная" русской усадьбы. - М.: Прогресс-Традиция, 2003. - 304 с.
- Кошарный В. П. Учение о религиозной революции Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус и Д. В. Философова // Соловьевские исследования. - 2017. - № 3 (55). - С. 96-111.
- Мережковский Д. С. 1825-1917 // Вечерний звон. - 1917. - 14 декабря.
- Мережковский Д. С. Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев // Мережковский Д. С. Вечные спутники: Роман. Стихотворения. Литературные портреты. Дневник. - М.: Школа-Пресс, 1996. - С. 535-607. (a)
- Мережковский Д. С. Завет Белинского. Религиозность и общественность русской интеллигенции // Мережковский Д. С. Вечные спутники: Роман. Стихотворения. Литературные портреты. Дневник. - М.: Школа-Пресс, 1996. - С. 489-509. (b)
- Мережковский Д. Собр. соч. Грядущий Хам / сост. и коммент. А. Н. Николюкина. - М.: Республика, 2004. - 478 с.
- Минц З. Г. О некоторых "неомифологических" текстах в творчестве русских символистов // Минц З. Г. Поэтика русского символизма. - СПб.: Искусство-СПБ, 2004. - С. 59-96.
- Нащокина М. В. Русская усадьба Серебряного века. - М.: Улей, 2007. - 432 с.
- Подорога В. Событие: Бог мертв Фуко и Ницше // Фридрих Ницше. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.nietzsche.ru/look/xxc/ontologie/vpodoroga/ (10.09.2019).
- Фуко Мишель. Слова и вещи / пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. - М.: Прогресс, 1977. - 405 с.
- Фуко Мишель. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью / пер. с фр. Б. М. Скуратова. - М.: Праксис, 2006. - Ч. 3. - 320 с.
- Шестакова Э. Г. Гетеротопия - рабочее понятие современной гуманитаристики: литературоведческий аспект // Критика и семиотика. - 2014. - № 1. - С. 58-72.
- Шорин Ю. Н. Ивонино: мир русской усадьбы пореформенного времени. Усадебный фотоархив как исторический источник // Русская усадьба: cб. ОИРУ. - М.: Жираф, 2006. - Вып. 12 (28). - С. 460-480.
- Эйдельман Н. Я. К биографии Сергея Ивановича Муравьева-Апостола // Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России XVIII-XIX веков / вступ. ст. А. Г. Тартаковского. - М.: Высшая школа, 1993. - С. 349-371.
- Glukhova E. V. Heterotopy of the Country Estate in the Poetics of Russian Symbolism (Part I: Zinaida Gippius) // Новый филологический вестник. - 2019. - № 4 (51). - С. 178-186 [Электронный ресурс]. - URL: http://slovorggu.ru/2019_4/51.pdf (10.12.2019).
- DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00100