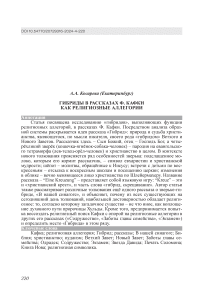Гибриды в рассказах Ф. Кафки как религиозные аллегории
Автор: Косарева А.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию «гибридов», выполняющих функции религиозных аллегорий, в рассказах Ф. Кафки. Посредством анализа образной системы раскрывается идея рассказа «Гибрид»: природа и судьба христианства, являющегося, по мысли писателя, своего рода «гибридом» Ветхого и Нового Заветов. Рассказчик здесь - Сын Божий, отец - Господь Бог, а четырёхликий зверёк (кошечка-ягнёнок-собака-человек) - пародия на евангельского тетраморфа (лев-телец-орёл-человек) и христианство в целом. В контексте нового толкования проясняется ряд особенностей зверька: подслащенное молоко, которым его кормит рассказчик, - символ евхаристии и христианской мудрости; шёпот - молитвы, обращённые к Иисусу; встречи с детьми по воскресеньям - отсылка к воскресным школам и посещению церкви; изменения в облике - вечно меняющееся лицо христианства по Шлейермахеру. Название рассказа - “Eine Kreuzung” - представляет собой языковую игру: “Kreuz” - это и «христианский крест», и часть слова «гибрид, скрещивание». Автор статьи также рассматривает различные толкования ещё одного рассказа о зверьке-гибриде, «В нашей синагоге», и объясняет, почему из всех существующих на сегодняшний день толкований, наибольшей достоверностью обладает религиозное: то, согласно которому загадочное существо - не что иное, как воплощение духовного пути пророчицы Хульды. Кроме того, предпринимается попытка воссоздать религиозный поиск Кафки с опорой на религиозные аллегории в других его рассказах («Содружество», «Заботы главы семейства», «Экзамен») и определить место «Гибрида» в этом ряду.
Кафка, религиозная аллегория, гибрид, рассказы, в нашей синагоге, библия, христианство, иудаизм, ветхий завет, новый завет, заботы главы семейства, одрадек, содружество, экзамен, звезда давида, печать соломона, книга иова, религиозная символика
Короткий адрес: https://sciup.org/149147190
IDR: 149147190 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-220
Текст научной статьи Гибриды в рассказах Ф. Кафки как религиозные аллегории
Kafka; religious allegory; “Eine Kreuzung”; stories; “In our synagogue”; Bible; Christianity; Judaism; Old Testament; New Testament; “Die Sorge des Hausvaters”; Odradek; “Gemeinschaft”; “Die Prüfung”; Star of David; Seal of Solomon; Book of Job; religious symbolism.
Франц Кафка вошёл в историю мировой литературы не только как гениальный провидец, символ своей эпохи, мастер трагикомедии и гротеска, но и как писатель, умевший создавать невероятные аллегории – настолько загадочные, что и по сей день литературоведы предлагают различные варианты толкования его наиболее таинственных произведений. В частности, к ним относятся рассказы «Eine Kreuzung» («Гибрид», 1917) и «In unserer Synagoge» («В нашей синагоге», 1922). В кругу литературоведов, специализирующихся на творчестве Кафки, «Гибрид» принято интерпретировать с позиций биографического подхода. С.Л. Гилман видит в странном зверьке попытку Кафки изобразить самого себя, писателя с чешско-немецко-еврейскими корнями, который не верит в то, что когда-либо сможет стать «нормальным» [Gilman 1995, 20], а В. Хамахер дополняет эту версию предположением о том, что толчком для создания хищно-травоядного «гибрида» стали фамилии родителей писателя: Кафка – «галка» (птица, и, следовательно, потенциальная жертва хищника), Леви – «лев» (хищник) [Hamacher 1999, 310–312]. Х.Н. Кригсберг поддерживает вышеупомянутых исследователей, уточняя, что, возможно, финал рассказа – о том, что жизнь Кафки «унаследованная им от родителей, жизнь, лишённая безопасности» не обрывалась насильственно лишь потому, что был высок его профессиональный статус [Kriegsberg 2010, 38]. C. Спектор также соглашается со сторонниками биографической гипотезы и добавляет, что произведение Кафки – пример «проблемного современного дискурса», доведённого до «эстетической крайности» и превращённого в «инструмент чистой эстетики» [Spector 2016, 111]. Цель данной статьи – предложить новую интерпретацию «Гибрида», в центре которой не смешанное происхождение писателя, а его религиозный поиск, а также определить место этого произведения в плеяде других рассказов Кафки, созданных в первые два десятилетия XX в. и богатых на религиозные аллегории.
Кафка, воспитанный в традициях иудаизма, относился к христианству с интересом и иронией одновременно. Началом освоения христианства для него стал 1912 г.: летом он отдыхал в горах Гарца, где посещал христианскую церковь. Один из представителей общины даже призывал Кафку обратиться в христианство, но писатель ответил, что к этому не готов. В тот же период Кафка согласился позировать скульптору для статуи христианского мученика, Святого Себастьяна, и читал Библию каждый день [Whitlark 1991, 92]. Уитларк отмечает, что в жизни Кафки два года были посвящены размышлениям о христианстве – 1912 и 1917 [Whitlark 1991, 92]. В 1917 Кафка дал христианству не слишком лестную характеристику: христианство – «нечто, тянущее вниз, как рука тонущего пловца» [Whitlark 1991, 90], «погружение в бездну» [Whitlark 1991, 91–92]. Кафка не мог «принять Христа как Бога Воплощенного, Начало и Конец» [Whitlark 1991, 94] и в тот же период пришёл к ироничному восприятию христианской догматики: пародия на христианство (особенно на веру в то, что «Слово стало плотью») стала частью его метафизики [Whitlark 1991, 89].
Именно в 1917 г. и был написан рассказ «Гибрид», в котором рассказчик описывает своего питомца – доставшееся ему из «владений отца» животное, наделённое чертами ягнёнка, кошки, собаки и человека. Если допустить, что отец в данном сюжете – это Отец Небесный, а сын – Иисус, то тайна редкого зверька перестаёт быть тайной: это «необыкновенное» существо с четырьмя ликами – христианство, олицетворением которого был новозаветный тетраморф, гибрид Тельца (Лука), Льва (Марк), Человека (Матфей) и Орла (Иоанн). Кафка, пародирующий убеждённость христиан в том, что Слово может обрести плоть, в своём рассказе превращает Новый Завет в живое существо – забавное, милое и вызывающее жалость.
Слова о том, что странное существо (христианство) досталось рассказчику (Иисусу) от отца (Бога) «в числе прочего наследства» [Кафка 2000, 272] – указание не только на генетическую связь Ветхого и Нового Заветов, но и на видения ветхозаветных пророков: Иезекииля, который узрел существо с четырьмя лицами (человека, льва, быка и орла), а также Иоанна, который в своём Откровении описывает четырёх апокалиптических созданий (ангела, льва, быка и орла), стерегущих Трон Господень и пределы рая. Кафкианский тетраморф, конечно, отличается как от ветхозаветного, так и новозаветного: вместо Льва, символизирующего власть и царственность Христа, у него «кошечка», которая брезгует мышами; вместо Орла, символа Святого Духа и Вознесения, – преданная собака, которая «вьётся вокруг ног» и «боится хоть на миг расстаться» с Сыном Божиим; вместо Тельца, искупительной жертвы Христа, – агнец с «мягкой и совсем гладкой» шерсткой. Христианство в восприятии Кафки – не мощная и полная величия религия, а немного неказистый и совершенно безобидный домашний зверёк.
О том, что, в понимании Кафки, христианство началось с жертвенности и бесчисленных мучеников, умиравших за новую религию, свидетельствует начало рассказа: рассказчик (Иисус) поясняет, что необыкновенный зверёк «окончательно развился» у него, а «раньше» был «больше ягнёнком, чем кошечкой» [Кафка 2000, 273]. От кошечки у христианства – «морда и когти»: речь идёт о претензии христианства на господство в прошлых столетиях и его агрессию в виде войн и крестовых походов, которые к началу XX в. из кровожадного льва выродились в «неумную природу кошки» [Кафка 2000, 273]. От ягнёнка – «размер и строение тела»: здесь Кафка намекает на идею жертвенности, лежащую в основе христианства и определяющую композицию Нового Завета. Рассказчик (Иисус) кормит зверька (христианство) «подслащённым молоком»: это отсылка и к молоку как христианскому символу божественной мудрости, Логоса и духовности, так и к мёду, который в сочетании с молоком использовался ранними христианами в евхаристии [Apostolos-Cappadona 2020, 101]. За словами «Жадно сосёт он молочко сквозь клыки хищного зверя» – ироничная улыбка и рассказчика, Сына Божьего, и самого Кафки, которого не столько раздражали, сколько забавляли кроющиеся в христианстве противоречия (будь смиренным, добродетельным и кротким, но при этом отвоёвывай своё силой, «огнём и мечом»). На кафкианского зверька (христианство) дети смотрят именно по воскресеньям потому, что это традиционный день посещения церкви и день занятий в воскресной школе: «Понятно, какая это забава для детишек. В воскресное утро у нас приёмные часы» [Кафка 2000, 273]. Тот факт, что, глядя друг на друга, настоящие котята и ягнята и новозаветный тетраморф не только не испытывают друг к другу «родственных чувств», но и испытывают антипатию («каждый мирится с существованием другого, как с волей провидения» [Кафка 2000, 273], тоже вполне объясним: «христианская религия всегда относилась к животным со смесью враждебности и равнодушия, утверждая, что животные лишены бессмертной души, не испытывают боли, и люди могут использовать их так, как пожелают» [Linzey 2016, 1–2]. Животные вынуждены мириться с христианством, которое их обижает, а христианство – с существованием «бездушных» животных. То, что в качестве материальной оболочки для христианства Кафка выбрал именно животное – опять же проявление его юмора. Современное Кафке христианство настигла та же участь, что и бедных животных: людям оно кажется лишённым души (Карл Юнг называл христианство «страшно выхолощенным»).
В середине рассказа появляется загадочное местоимение «мы»: рассказчик отмечает, что зверёк «по-семейному привязан к тем, кто его вырастил» и добавляет: «…это вовсе не какая-то особенная преданность, а попросту верное чутье животного, у которого по белу свету рассеяно бесчисленное множество свойственников, но настоящей кровной родни, должно быть, нет вовсе, и потому мы для него – священный оплот» [Кафка 2000, 273]. Кто такие «мы»? Очевидно, что в данной интерпретации – это Отец, Сын и Святой Дух, которые, безусловно, являются священным оплотом христианства. «Бесчисленное множество свойственников» – это и направления христианства (протестантизм, католицизм, православие), и многочисленные секты. Разумеется, «кровным родством» может считаться лишь связь христианства с Отцом, Сыном и Святым Духом, а не с множественными модификациями этого учения.
Слёзы Иисуса и слёзы христианства (страдания Иисуса, описанные в Новом Завете) связаны неразрывно: «я невзначай опустил глаза и увидел, что с его косматой мордочки капают слёзы – мои или его?» Шёпот зверька – это хри- стианские молитвы, обращённые к Иисусу. Предположение о том, доходят молитвы до Иисуса, или нет, Кафка выдвигает ближе к концу рассказа: «Кажется, будто он что-то шепчет мне; и в самом деле, он тут же нагнётся и заглянет мне в лицо, словно хочет проверить, как на меня подействовало его сообщение. Ему в угоду я киваю с понимающим видом» [Кафка 2000, 274]. Кафкианский Иисус слышит шёпот, но не различает слов, и потому только делает вид, что внемлет молитвам.
«Возможно, что нож мясника был бы для такого существа избавлением. Но он – моя наследная доля, и я на эту жертву не пойду. Пусть дожидается, пока сам не испустит дух, хотя порой он и смотрит на меня разумным человеческим взглядом, призывающим поступить так, как велит мне разум» [Кафка 2000, 274]: в этом заключительном фрагменте Кафка саркастично обрисовывает предполагаемое отношение Иисуса к христианству. С одной стороны, христианство, неказистый гибрид Ветхого и Нового Заветов, созданный несовершенными людьми, – это наследная доля Иисуса и даже своего рода предмет гордости («немного я унаследовал от отца, но этот зверёк дорогого стоит» [Кафка 2000, 273]). С другой стороны, христианство ущербно и не отражает истины, а потому разум (Логос, который лежал в начале Творения, согласно книге Бытия) требует от Бога-Сына положить конец «жизни» нелепого учения. Выбор, который Иисус, в итоге делает, соответствует его миролюбивое натуре: он прощает несовершенное учение и предоставляет ему возможность «умирать» в эпоху Ницше естественным образом. О том, что в рассказе речь идёт именно о христианстве, свидетельствует и название произведения – «Eine Kreuzung». «Kreuzung» в немецком – это не только «гибрид», но и «перекрещивание» и «крестовина», а «Kreuz» – «крест», в том числе, христианский («das Kreuz schlagen», «ein Kreuz machen» значит «креститься»). Таким образом, Кафка здесь со свойственным им юмором наслаждается языковой игрой: описанный в рассказе «зверёк» – результат Крещения. Проясняется в контексте «христианской» интерпретации и способность «зверька» в разное время демонстрировать рассказчику разные лики; в «Речах о религии» немецкий философ Ф.Д. Шлейермахер отмечал, что весь объем христианской религии «бесконечен и не может быть вмещён в одну определённую форму, а лишь в совокупность всех её форм», а «лицо» христианства «находится в беспрестанном движении» [Шлейермахер 1994, 90].
Использование образа зверька-гибрида в качестве религиозной аллегории представлено и в другом рассказе Кафки – «В нашей синагоге» (1922). Главное действующее лицо здесь – маленький шустрый зверёк, пугливый, напоминающий одновременно и ласку, и крысу, наделённый бессмертием и испытывающий привязанность к зданию синагоги. Мужчины и дети не обращают на него внимания, а женщины боятся, при этом проявляя к существу интерес. Сам зверёк тянется к женской половине синагоги, хотя на пространственном уровне занимает промежуточное положение между мужской и женской половинами. Рассказчик отмечает, что в прошлом некоторые служители синагоги считали присутствие зверька в синагоге настолько неуместным, что даже пытались его поймать и выдворить с помощью верёвки, пращи и посоха. Тем не менее, выгнать зверька не удалось, и его бытие всё так же связано с синагогой.
По мнению А. Брюс и Р. Марча, своим рождением зверёк обязан росписи на стенах синагоги, где бывал Кафка, а символизирует он память о прошлом еврейского народа: «…животное, чьи глаза без век всегда открыты… представляет собой память о прошлом» [Bruce, March 2007, 164]. Г. Барцель выдвигает версию, согласно которой в рассказе отражено мироощущение Кафки: «бытие без конкретных онтологических обязательств, потребность в уединении и в то же время желание быть частью чего-то» [Barzel 1996, 98]. Использование образов животных исследователь объясняет своеобразной иронией писателя: «Представление главных героев в виде животных символизирует человеческое смирение и невежество. <…> При помощи юмора Кафка показывает, насколько неадекватна исходная точка поиска человеком истины» [Barzel 1996, 100]. Д. Мирон считает, что рассказ Кафки – «квинтэссенция еврейского высказывания, в котором испуганный маленький грызун представляет собой сущно сть «еврейского бытия» в отличие от еврейской религии, ритуала, цивилизации» [Miron 2010, 350].
Трактовка, которая раскрывает все присутствующие в тексте рассказа символы и отличается глубоким историзмом и аналитично стью, принадлежит Мартину Вассерману, который, отметив, что на иврите «ласка / куница» – это “huldah”, проводит сюжетные и образные параллели с жизнью ветхозаветной пророчицы Хульды, жившей при царе Иосии и предсказавшей уничтожение Израильского Царства и гибель всего еврейского народа. Сине-зелёный цвет шерстки зверька – отсылка к цвету специальной краски, украшавшей одежду древних евреев; страх женщин перед зверьком – грозный характер Хульды, наставлявшей еврейских женщин на путь истинный и регулярно делавшей им выговоры. Промежуточное положение между мужской и женской частями синагоги – «неопределённость» положения Хульды, которая, с одной стороны, занималась воспитанием женщин, но при этом, не будучи священником (коэнами и левитами могли быть только мужчины), пользовалась привилегиями мужчины-пророка и находилась под покровительством царя. Тяга зверька к Ковчегу Завета, где хранится Тора, – аллюзия на деятельно сть Хульды, обучавшей израильских мудрецов тайнам устной Торы. Желание некоторых служителей синагоги избавиться от зверька – отражение конфликта Хульды с некоторыми современными ей завистливыми священнослужителями, а также графическое изображение по стулата иудаизма, согласно которому евреи, борющиеся с религией внутри синагоги, в этой борьбе становятся лишь сильнее для сражения с внешними врагами иудаизма. Символы такой силы – ветхозаветные праща (аллюзия на подвиг царя Давида) и по сох (имеется в виду волшебный посох Моисея).
Таким образом, рассказ Кафки, освоившего в совершенстве иврит в 1920-е гг. и хранившего в свой личной библиотеке более 60 книг об иудаизме, Вассерман называет «особенным воспоминанием» о библейской пророчице Хульде, которое Кафка оживил в образе животного-гибрида [Wasserman 1997, 63–71]. С Вассерманом соглашается С. Бернхардт, добавляя, что гибридный облик зверька из рассказа (помесь крысы и ласки), очевидно, связан с тем, что в иврите “huldah” – это ещё и «крыса» [Bernhardt 2017, 168]. Толкования, предложенные Вассерманом и Бернхардт, укладываются в общую картину религиозных исканий Кафки в первые десятилетия XX в.: в тот же период он создал рассказы «Заботы главы семейства» (1917), «Гибрид» (1917), «Содружество» (1920) и «Экзамен» (1920), наполненные религиозными аллегориями родом из Каббалы и Ветхого Завета – «ожившими» Звездой Давида и Печатью Соломона, смеющейся звездообразной катушкой ниток (Одрадеком), символизирующим каббалистическое учение, и слугой, который оказывается праведником, проходящим путь Иова.
Примечательно, что в рассказах, написанных в 1917 г., Кафка в юмористическом ключе поднимает тему удивления и даже печали Бога, взирающего на созданную людьми религию: в «Die Sorge des Hausvaters» – это недоумение, вызванное Каббалой, а в «Eine Kreuzung» – грустная улыбка в адрес христианства. Одрадек, «полукошечка-полуягнёнок», Хульда в образе куницы-крысы и Печать Соломона, не желающая превращаться в Звезду Давида, – причудливые гибриды, символизирующие в художественном мире Кафки четыре религиозные традиции – каббалистическую, ветхозаветную, новозаветную и иудейскую. Писатель с юмором указывает на сложный и подчас противоречивый характер этих традиций, одновременно расставляя своего рода приоритеты в истории своего религиозного поиска. Звезда Давида, Одрадек и Хульда, согласно сюжетам рассказов о них, имеют надежду на будущее, в то время как «полукошечка-полуягнёнок» обречена медленно умирать, чудом избегая Божьего Гнева. Так Кафка провёл границу между исконно еврейским (ветхозаветным, каббалистическим, иудейским) – тем, в сторону чего он, в итоге, сделал выбор – и модифицировавшим еврейское, то есть христианством, которое он не принял.
Список литературы Гибриды в рассказах Ф. Кафки как религиозные аллегории
- Кафка Ф. Рассказы. Пропавший без вести. М.: Фолио, 2000. 543 с.
- Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. Санкт-Петербург: Алетейя, 1994. 432 с.
- Apostolos-Cappadona D. A Guide to Christian Art. London: Bloomsbury Publishing, 2020. 304 p.
- Barzel H. Kafka's Jewish Identity: A Contemplative World-view // Schrader H.-J. (Ed.) et al. The Jewish Self-Portrait in European and American Literature. Tubingen: Niemeyer, 1996. P. 95-108.
- Bernhardt S. Chapter 7 // Simms N. Jews in an Illusion of Paradise: Dust and Ashes. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017. P. 81-171.
- Bruce I., March R. Kafka and Cultural Zionism: Dates in Palestine. Madison: University of Wisconsin Press, 2007. 262 p.
- Gilman S.L. Franz Kafka, the Jewish Patient. New York and London: Routledge, 1995. 328 p.
- Hamacher W. The Gesture in the Name: On Benjamin and Kafka // Essays on Philosophy and Literature from Kant to Celan. Stanford: Stanford University Press, 1999. P. 294-336.
- Kriegsberg H. N. "Czechs, Jews and Dogs Not Allowed": Identity, Boundary, and Moral Stance in Kafka's "A Crossbreed" and "Jackals and Arabs" // Yarri D., Lucht M. Kafka's Creatures: Animals, Hybrids, and Other Fantastic Beings. Plymouth: Lexington Books, 2010. P. 33-52.
- Linzey A. Christianity and the Rights of Animals. Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2016. 220 p.
- Miron D. From Continuity to Contiguity: Toward a New Jewish Literary Thinking. Stanford, California: Stanford University Press, 2010. 560 p.
- Spector S. Elsewhere in Central Europe: Jewish Literature in the Austro-Hun-garian Monarchy between «Habsburg Myth» and «Central Europe Effect» // Eley G., Jenkins J., Matysik T. German Modernities from Wilhelm to Weimar: A Contest of Futures. London, New York: Bloomsbury Publishing, 2016. C. 105-117.
- Wasserman M. Kafka's «The Animal in the Synagogue»: His Marten as a Special Biblical Memory // Wasserman M. Kafka Kaleidoscope. Delhi, New York: Birch Book Press, 1999. P. 63-71.
- Whitlark J. Behind the Great Wall: A Post-Jungian Approach to Kafkaesque. London, Toronto: Associated University Press, 1991. 285 p.