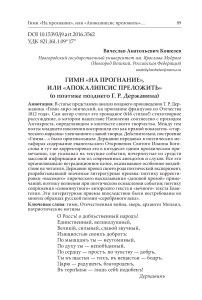Гимн "На прогнание", или "Апокалипсис преложить" (о поэтике позднего Г. Р. Державина)
Автор: Кошелев Вячеслав Анатольевич
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ позднего произведения Г. Р. Державина «Гимн лиро-эпический, на прогнание французов из Отечества 1812 года». Сам автор считал это громадное (646 стихов!) стихотворное рассуждение, в котором нашествие Наполеона соотнесено с приходом Антихриста, определяющим в контексте своего творчества. Между тем поэты младшего поколения восприняли его как прямой показатель «старческого маразма» увенчанного славой творца. Действительно, построение «Гимна…» было оригинальным: Державин передавал в поэтических метафорах содержание евангельского Откровения Святого Иоанна Богослова и тут же корректировал его в пятьдесят одном прозаическом примечании, где указывал на текущие события, почерпнутые из средств массовой информации или из современных анекдотов и слухов. Все это организовывало нетрадиционное целое, оказывавшее особенное воздействие на читателя. Державин провел своего рода поэтический эксперимент, разрабатывавший значимые литературные приемы: поэтику корректировки «высокого» лирического высказывания «деловой прозой» примечаний; поэтику волнения при поэтическом осмыслении события; поэтику сопряжения «сиюминутного» авторского текста и «вечного» текста Евангелия. Эти литературные приемы впоследствии были востребованы во многих образцах русской поэзии «серебряного века».
Гимн, отечественная война, зверь, архангел михаил, патриотические мотивы
Короткий адрес: https://sciup.org/14748984
IDR: 14748984 | УДК: 821.161.1.09“17” | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3562
Текст научной статьи Гимн "На прогнание", или "Апокалипсис преложить" (о поэтике позднего Г. Р. Державина)
О Россъ! о добльственный народъ!
Единственный, великодушный, Великiй, сильный, славой звучный, Изящностью своихъ добротъ: По мышцамъ ты — неутомимый, По духу ты — непобѣдимый, По сердцу — простъ, по чувству — добръ, Ты въ щастьи — тихъ, въ нещастьи — бодръ, Царю — радушенъ, благороденъ, Въ терпѣньи — лишь себѣ подобенъ!
Державинъ
Э то эпиграф к первой части известной антологии «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году», вышедшей в Москве весной 1814 года и вживе отразившей эпоху. Взят он из стихотворения Г. Р. Державина «Гимн лироэпический, на прогнание французов из Отечества 1812 года». Впервые этот «Гимн…» был напечатан в десятом «Чтении в Беседе любителей русского слова» в феврале 1813 года — и вскоре вышел еще отдельным изданием1. В составе же самого «Собрания стихотворений…», посвященного Отечественной войне, он занял первое место (с. 2–27): среди авторов Державин был самым именитым и самым заслуженным поэтом.
«Гимн…» Державина, явленный в судьбоносное для России время, мыслился как этапное творение «певца Фелицы», как осмысление им художественных принципов «лирической поэзии» как таковой (над ними поэт особенно много размышлял в последние годы жизни [7, 103–131]). Напечатанный неоднократно в разных изданиях, восхваленный в заседаниях петербургской «Беседы…» и в московском журнале «Русский вестник» С. Н. Глинки2, этот гимн как будто претендовал на то, чтобы стать самым «казовым» творением позднего Державина — и вызвать (как в свое время «Фелица») целый хор откликов современников, призванный увенчать лаврами престарелого автора. Но нет — не вызвал…
Писатели младшего поколения не смогли этого творения оценить. Более того, они восприняли «Гимн…» как произведение впавшего в маразм сочинителя — образец словесной «нелепости». Уже после смерти Державина известный остроумец Д. В. Дашков в «арзамасской» речи изобразил литературные «похороны» поэта: за его гробом сумасшедшие «беседчики» «несли груду тяжелых свитков, на которых сквозь покрывавшую их плесень я с трудом прочитать мог заглавия: “Гимн Лироэпический”, “Евпраксия”, “Василий Темный”, “Кутерьма от Кондратьев”» (все — названия поздних произведений поэта; из них «Гимн…» — на первом месте). Потом оказывается, что лежащий в гробу творец этих произведений — просто «безобразный призрак», а «истинный певец Фелицы, сияя бессмертием, сидел на облаке с Ломоносовым и Петровым» [2, 399].
Как отметил О. А. Проскурин, здесь отразилась общая мифология восприятия Державина в культуре начала XIX столетия. Сосуществовали как будто «два Державина»: первый русский поэт, национальный гений («истинный певец Фели-цы») — и вздорный «старик», автор «нынешних», скучных и маловразумительных, сочинений. И распространяемый во многих перепечатках «Гимн…» стал самым принципиальным текстом, отражающим существо творческих исканий позднего Державина [8, 360–363].
«Гимн лиро-эпический, на прогнание французов из Отечества 1812 года» представляет собой громадное (646 стихов!) стихотворное рассуждение, в котором нашествие Наполеона соотнесено с приходом Антихриста. В тексте рассыпаны цитаты и намеки на книги Ветхого и Нового Завета. При этом особое внимание уделено Апокалипсису: Наполеон и его окружение воплощают апокалиптическое, мировое зло («Из-шелъ изъ безднъ огромный звѣрь...» (2)); адским силам противостоит Россия во главе с Александром-«агнцем», носителем светлого, божественного начала («Смиренный, кроткiй, но чело-перунный…»), а спаситель России Кутузов уподобляется соименному ему архангелу Михаилу. Упоминаются в «Гимне…» Платов, Витгенштейн, Багратион, битвы при Бородине, Малоярославце и т. п. Все это описано тяжелыми (с перебоями ритма) стихами, синтаксис сложен и запутан, по всему тексту обильно рассыпаны архаизмы и новообразования, усиливающие маловразумительность целого.
Младшие современники «старика Державина» восприняли это сочинение (для автора — принципиальное и «казовое») как прямой показатель «старческого маразма» увенчанного славой творца, который к тому же отражал «маразм» современной словесности. Будучи поставленным на первое место среди «стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году», «Гимн…» должен был демонстрировать несомненный литературный «упадок» (см. об этом также: [1, 68–70, 78–82]; [5, 44]; [6, 84–97]).
Именно так воспринял державинский «Гимн…» лицеист Пушкин. Во второй половине 1815 года (уже после знаменитого лицейского экзамена, знаменовавшего символический акт литературной преемственности) он пишет литературно-полемическую сатиру «Тень Фон-Визина». Она явно ориентирована на батюшковское «Видение на брегах Леты», хотя исходная ситуация ее несколько иная. Из загробного мира является единственный «судья» — Фонвизин — с целью «Пѣвцовъ Россiйскихъ посѣтить / Иныхъ — лозами наградить, / Другихъ — вѣнкомъ увить свирѣли…»3. С этой целью он посещает многих здравствующих писателей: П. А. Кропотова, Д. И. Хвостова, П. И. Шаликова, А. С. Шишкова и др. Устав от «худыхъ писцовъ», Фонвизин появляется у старого приятеля, былого «пѣвца Ека-терины»4, который — «увы!» (восклицание Пушкина, курсив мой. — В. К.) — еще жив. Державин читает своему другу и «судье» сочиненный им «из Гимнов Гимн прямой». В пушкинской пародии он кажется бессмысленным набором фраз:
“Открылась тайнъ священныхъ дверь!..
Изъ безднъ изходитъ Луциферъ Смиренный, но челоперунный. Наполеонъ! Наполеонъ!
Парижъ, и новый Вавилонъ, И кроткiй Агнецъ бѣлорунный Превосходясь, какъ дивiй Гогъ, Упалъ какъ духъ Сатанаила, Изчезла демонская сила!…
Благословенъ Господь нашъ Богъ!”....5
Судя по этой пародии, Пушкин очень внимательно читал державинский «Гимн…». Он берет реальные (или чуть измененные) его строки и, соединяя намеренно хаотически, составляет своеобразную «выжимку», обессмысливающую источник. Эта пародия и следующая за ней характеристика Державина как поэта, пережившего свою славу, была литературной дерзостью — не случайно Пушкин скрывал авторство этой сатиры…
При этом ироническое восприятие «отцветшего» «певца Фелицы» не мешает относиться к Державину как к поэту «истинному» и «великому». «Что сделалось с тобой, Державин?» — восклицает, выслушав его творение, Фонвизин. А Пушкин не удерживается от беспощадного юношеского, почти кощунственного упрека:
“И спотыкнулся мой Державинъ Апокалипсисъ преложить — Денисъ! онъ вѣчно будетъ славенъ Но, ахъ, почто такъ долго жить?”6
Странным образом принципиальное для Державина произведение (по которому будут характеризовать поэтику позднего Державина) очень плохо укладывается в его биографию. Так, «Гимн…» только мимоходом и «кстати» упоминается в капитальном исследовании Я. К. Грота «Жизнь Державина» (отмечается его непонятно откуда взявшееся «мистическое направление» [4, 615–616]). Непонятно, например, когда это огромное стихотворение (по объему равное главе из «Евгения Онегина») писалось. Само «прогнание французов из Отечества» состоялось в декабре 1812 — январе 1813 года (11 декабря русские войска вступили в Вильну, 28 января — в Варшаву). А уже 30 января 1813 года цензор допускает державинский «Гимн…» к печати.
Если попробовать рассмотреть контекст написания этого произведения, то оно оказывается между балладой «Царь-девица» (1812, в рукописи имеет подзаголовок — «Романс») и балладой «Новгородский волхв Злогор» (1813) — обе весьма далеки от мистики… Свои мемуарные «Записки из известных всем происшествиев…» Державин завершил, как известно, именно войной 1812 года, упомянув в конце свое, тоже отнюдь не «мистическое», письмо к Александру I из Новгорода «о некоторых к обороне служащих мерах»7. Откуда же тогда явилось «мистическое направление» в «Гимне лиро-эпическом…»?
Если рассмотреть этот «Гимн…» в контексте упомянутого «Собрания…», посвященного 1812 году, то нельзя не заметить — даже в заглавии — его существенное отличие от остальных поэтических произведений, антологию составивших. Уже второй текст, следующий непосредственно за «Гимном…» и принадлежащий перу попечителя Московского университета П. И. Голенищева-Кутузова, носит вполне «правильное» и соответствующее традиции заглавие: «Ода на истребление врагов и изгнание их из пределов любезного Отечества». Не какой-нибудь «гимн», относящийся почему-то сразу к двум литературным родам, — а «ода». И «нормальный»
для оды объем: 16 одических (десятистишных) строф. И — без всяких новообразований — воспевает не «прогнание» врагов, а их «истребление» и «изгнание».
Но для Державина важно именно новообразованное «про-гнание». «Изгнание» — слишком высокое понятие для определения бегства армии Наполеона («изгнание Адама и Евы из рая»). Французов именно прогнали — что называется, «поганой метлой»! По той же причине он, например, употребляет по отношению к русскому народу слово «добльственный» (а не «доблестный»). В «Словаре Академии Российской» оба эти слова указаны как синонимы исходного понятия «доблий» («мужественный, твердый, великодушный»)8. Но слово «добль-ственный» выглядит более архаичным — следовательно, более торжественным.
Столь же щепетилен он и в жанровом обозначении. Не «ода» — а « гимн ». При этом в теоретических представлениях самого Державина («Разсуждение о лирической поэзии, или об оде», 1812) ода и гимн — очень близкие понятия: «Ода, слово греческое, равно как и псальм, знаменует на нашем языке песнь. По некоторым отличиям, в древности носила на себе имя Гимна, Пеана, Дифирамба, Сколии, а в новейших временах иногда она то же, что Кантата, Оратория, Романс, Баллада, Станс и даже простая песня»9. В подобном «расширении» представлений об оде повинен был, между прочим, сам Державин. Былая поэтическая слава «певца Екатерины» основывалась на том, что он ввел в поэзию « забавный русский слог » (курсив мой. — В. К. ). Этот слог означал полный отказ от иерархической системы классицистических «штилей», установленной Ломоносовым, смешение лексики, уничтожение жанровых перегородок и — размывание главного лирического жанра — торжественной оды. У Державина все стихи стали называться «одами». Ода выступила даже синонимом «лирической поэзии» как таковой.
Но сам Державин особенно выделил гимн: «Гимн парением своим несколько ниже Оды. <…> Гимнами Евреи в разных случаях воспевали истиннаго Бога и чудеса Его, а язычники — поклоняемых ими богов и человеков, прославившихся знаменитыми подвигами. <…> Гимны содержали в себе часть религии и нравоучения. Они певались при богослужении, ими объясняемы были оракулы, возвещаемы законоположения, преподаваемы, до изобретения письмен, славныя дела потомству и проч. <…> Пели Гимны при восхождении солнца, при наступлении нощи, при новомесячии и ущербе луны, при собирании жатвы и винограда, при заключении мира и при наслаждении всякаго рода благополучием, а равно и при появлении войны, морового поветрия и какого-либо инаго бедствия, не от одного или нескольких молебщиков, но от лица всего народа. Чрез Гимны возносились благодарения, славословия, моления и жалобы божествам. Гласы их были гласы благоговения, наставления, торжественности, радости, великолепия, или вопли негодования, сетования, мщения, уныния, плача и печали»10.
В представлениях Державина гимн — самый ранний (еще — с языческих времен!) и самый яркий образец именно лирического творчества. Он может отразить «чувства сердца в рассуждении какого-либо предмета, а не действия его». И далее: «Где же останавливаются на действии, тут уже сближаются к Эпопее»11. Эпопея же (как констатировал по следам Державина Н. Ф. Остолопов) «есть повѣствованiе въ стихахъ о какомъ либо знаменитомъ и достопамятномъ дѣянiи», «есть подражанiе (курсив мой . — В. К. ) дѣянiя знаменитаго, величественнаго и полнаго (совершеннаго, цѣлаго, т. е. имѣющаго начало, средину и конецъ), повѣствуемое высокимъ слогомъ, служащее къ потрясенiю души чудесностями и услаждающее оную прiятностями»12.
Державину же в данном случае важно отразить то «чувство сердца», которое вызвало у него ярчайшее национальное действие — «прогнание» нечестивого завоевателя. Поэтому то, несколько вычурное и необычное, жанровое обозначение, которое он дает, оказывается абсолютно точным и даже единственно возможным.
Семантика отраженного действия тоже, при ближайшем рассмотрении, оказывается глубоко продумана. Современный исследователь «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» отметил яркую его особенность — это была первая «поэтическая история войны между Россией и Францией», имевшая вполне прагматическую цель: «продемонстрировать патриотическое единение русского народа, прославить его уникальную природу и его верноподданнические чувства к царю, запечатлеть главные события Отечественной войны». Открывающий «Собрание…» «Гимн…» «не только задает главные риторические приемы, с помощью которых описывается и осмысляется война против Наполеона. Державин определяет в своем сочинении и хронологические границы событий, начало и конец противостояния Европы, России и Франции» [3, 168–169].
Наполеоновские войны Державин представляет в особенной поэтической логике, трудно улавливаемой в архаических поэтических стихах. В данном случае поэт обильно снабдил стихотворный текст 51 «примечанием» — и над ними активно работал, дополняя и исправляя при последующих перепечатках прежде всего их: они играли роль композиционной основы текста. В соответствии с теоретико-литературными представлениями Державина его « чувства сердца в рассуждении» об Отечественной войне выражаются в высоких стихах, а собственно действие — событийная канва, послужившая источником этих чувств, — в примечаниях, которые ярко делятся на три типа:
-
1) подлинные цитаты из Библии, переосмысленные в поэтическом тексте;
-
2) указание на текущие события, почерпнутые из средств массовой информации (газета «Северная Почта» или журнал «Сын Отечества»);
-
3) пересказ поразивших автора современных анекдотов и слухов.
С самого начала поэт вводит необычную поэтическую Музу. К стихам из первой строфы: «Возстань Тимпанница Царева, / Священно-вдохновенна Дѣва!» (1) — дается примечание: «У Давида и Соломона были хоры пѣвцевъ, между которыми и Тимпанницы дѣвы. Здѣсь дѣва разумѣется тоже, что Муза» (I). Между тем, «тимпан» (упоминающийся и в Библии) был изначально греческим музыкальным инструментом, напоминавшим небольшой плоский барабан и употреблявшимся женщинами во время вакханалий. В русской поэзии этот инструмент чаще выступал как эротический символ: в стихотворении К. Н. Батюшкова «Вакханка» (1815) «нимфа юная» падает в объятия героя — «и тимпанъ подъ головой»13. Муза, воспевающая победу в войне, оказывается родственной Музе любви — таков закон лирической поэзии.
В следующих строфах начинается поэтическое переложение Апокалипсиса (Откровения св. Апостола Иоанна). Державин обращается в основном ко второй части евангельской книги, в которой повествуется о борьбе «Змея» («Дракона», «Зверя») и «Агнца» («Ангела»). Во второй строфе дается «сигнал» сопоставления: «Подъ пепломъ въ дымѣ зрю Москву» (1). Развивая мотив противостояния, перенесенного в современность, поэт объясняет в примечании: «Здѣсь подъ видомъ Агнца представляется Христiанская кротость и имѣетъ отношенiе къ тому, что Царствующiй Императоръ вступилъ на престолъ подъ знакомъ Овна» (I).
Кратко упомянув о захвате Наполеоном французского трона, поэт приступает к подробному рассказу о его походе на «спокойную Россию». При этом усложненные поэтические формулы тут же (в примечаниях) подкрепляются сухими газетными реляциями:
<Гимн…> <Примечания>
Какъ рѣкъ пяти шумящихъ Наполеонъ пятью колоннами вдругъ / Чрезъ Неманъ болѣе нежели въ 500.000 прорвались преградный (5) человѣкъ, перешелъ пограничную рѣку Неманъ (I)
Что мы (съ насмѣшкою Въ письменахъ въ Парижъ хвалился) / Бѣжимъ его и бюллетеняхъ тщеславился и праха ногъ (5) — Наполеонъ такимъ образомъ (I)
По жатвѣ звучной, громкой славы, / Въ Петрополѣ, въ Москвѣ забавы (5) —
Россiя внемлетъ гласъ Царя, / Зовущаго на ополченье (6) —
Во храмы запустѣнье внесъ, / Святыхъ не пощадилъ тѣлесъ (9) —
И домы благостыни / Смердя своими надписьми (10)
А Олтари коньми / Онъ поругалъ (10)
Нѣкоторыя Парижскiя дамы по увѣренiю Наполеона писали къ Петербургскимъ Французскимъ торговкамъ, чтобъ онѣ къ Петрову дню приготовили имъ платья для бала въ Петергофѣ (I)
Манифестъ объ ополченiи 6 числа Iюля 1812 года (I)
Смотри Сѣверной Почты № 94, статью изъ Москвы о неистовствѣ
Французовъ (II)
Слухъ носился, что Наполеонъ въ Москвѣ своими надписями богоугодныя заведенiя присвоилъ своей матери (II)
Смотри Сѣверной Почты № 78, статью изъ Твери (II).
И так далее.
Эти — поэтически и прозаически представленные — факты вырастают в «неестественную» историософскую антиномию: «Какъ Западъ съ Сѣверомъ сражался, / И громъ о громы ударялся» (11). В поэтической традиции Франция и Россия сопоставлялись либо как «благодатный Юг» — «пробуждающийся Север» («Вечер у Кантемира» К. Н. Батюшкова), либо как «гниющий Запад» — «дремлющий Восток» (позднейшая «Элегия» А. С. Хомякова). Державин сразу же разрушает эту традицию: он исходит не из «европейской», а из «вселенской» географии. Упомянув о трех основных сражениях Отечественной войны («На Бородинскомъ полѣ страшномъ, / На Мало-ярославскомъ, Красномъ» (11)), он дает примечание: «При сихъ мѣстахъ три славныхъ побѣды рѣшили участь не токмо Россiи и Европы; но такъ сказать, цѣлой вселенной» (II).
И тут же пишет о трудности этих «славных побед»: «Тамъ рвали другъ у друга громъ» (12) («Въ реляции отъ 27 Августа видно, что батареи при Бородинѣ переходили нѣсколько разъ изъ рукъ въ руки» (II)); «Осмъ кратъ спирали градъ челомъ» (12) («Въ журналѣ о военныхъ дѣйствiяхъ отъ 16 числа Октября видно, что Малоярославецъ восемь разъ тоже переходилъ изъ рукъ въ руки» (II)). Но эта трудность соотносится с идеей предначертанности победы и «прогнания». Чуть ниже утверждается, что «cѣверныя силы / Всегда на западъ ужасъ наносили» (20) (и в примечании: «Извѣстно по исторiи, что всегда Cѣверные народы одолѣвали западныхъ, — и самъ Римъ палъ отъ нихъ» (IV)).
Затем следует новое обращение к Апокалипсису — на этот раз уже предметное. Перекладывая в стихи главы 13–18, Державин прямо соотносит бегущего от Ангела Зверя — и бегущего из России Наполеона. Следуют 9 строф с единоначатием «Бежит — и…» по типу: «Бѣжитъ, — и пламеннымъ мечемъ / Его въ тылъ Ангелъ погоняетъ» (13). Картина бегства врага увенчивается серией мистических сопоставлений. Наполеон прямо называется «таинственныхъ числъ звѣрь» (18), а в примечании приводятся «исчисленiя Дерптскаго Профессора Ге-целя», доказывающие (двумя способами) «что въ числѣ 666 содержится имя Наполеона » (II).
Здесь Державин действительно увлечен мистикой, хотя и своеобразно представляемой: «Бѣжитъ; — но сорока двухъ лунъ / Ужъ данный срокъ на возвышенье, / Еще пяти — на оскверненье / Ему прошелъ» (17). В примечании — разъяснение: «42 мѣсяца, нѣкоторые разумѣютъ 42 года его, можетъ быть, политической жизни по сей 1812 годъ; а другiе, 42 мѣсяца при-нимаютъ въ прямомъ смыслѣ время его успѣховъ по Гишпан-скую войну, и объясняютъ оные числомъ звѣринымъ, какъ ниже видно. — Касательно же 5 мѣсяцевъ, то оные полагаютъ со дня вступленiя его въ Россiю, съ Iюня по Ноябрь мѣсяцъ» (II). То же — в толковании апокалиптического Зверя как «седьмь-главаго» и «о десяти рогахъ вѣнчаннаго» (18): «Подъ главами разумѣются здѣсь семь Королей, поставленныхъ Наполеономъ, какъ то: Неаполитанскiй, Вестфальскiй, Виртембергскiй, Cаксонскiй, Голландскiй, Испанскiй, Баварскiй ; а подъ рогами — десять народовъ ему подвластныхъ, а имянно: Австрiйскiй, Прусскiй, Саксонскiй, Баварскiй, Виртембергскiй, Вестфальскiй, Италiянскiй, Гишпанскiй, Португальскiй и Польскiй, какъ въ Манифестѣ отъ 3 Ноября сего 1812 года явствуетъ» (III).
Затем наступает черед восхваления победителей, прогнавших Зверя:
Упала демонская сила
Рукой избранна Князя Михаила.
Сей мужъ лишь Гога могъ потрясть, Россiю вѣрой спасть (18).
К первым двум стихам дается примечание: «Замѣчательно, что Фельдмаршалъ Кутузовъ при порученiи ему въ предводительство армiи, какъ бы нарочно, пожалованъ Княземъ, что бы сблизиться съ Священнымъ Писанiемъ; впрочемъ Онъ избранъ былъ общимъ голосомъ въ Начальники всеобщаго ополченiя» (III). Ко вторым двум: «По нѣкоторымъ извѣстiямъ видно благочестiе Князя Кутузова, что Онъ предъ Бородин-скимъ сраженiемъ предъ Иконою Божiей Матери съ Генералами въ виду всего войска присягнулъ, чтобы ни шагу съ мѣста не отступать» (III). Победа «добльственного народа» объясняется прежде всего крепостью его веры, которая и обеспечила верность «предначертанного».
Поэт называет Париж «новым Вавилоном», который в Апокалипсисе охарактеризован как «мать блудницам и мерзостям земным» (Откр. 17:5). Державин с удовольствием расшифровывает эту характеристику в примечании: «Развратъ, соблазнъ, нечестiе и самое безбожiе Французска-го народа, не упоминая о бывшихъ въ послѣднюю революцiю, видны въ Исторiи самыхъ давнихъ вѣковъ Христiанства. Ихъ упрекаютъ, что они еще во время обладанiя Готфами Гишпанiи и Францiи при Королѣ Вамбо, совокупясь съ нѣкоторымъ похитителемъ престола Павломъ Грекомъ, какъ нынѣ съ Бонапартомъ, поругали Христiанскую вѣру разными безчинiями. — Во время четвертаго крестоваго похода въ Константинопольскомъ Софiйскомъ соборѣ плясали съ распутными дѣвками, изъ коихъ одна припѣвала сквернословную пѣсню. — Тожъ и въ лучшiе дни своего просвѣщенiя при Людовикѣ XIV въ Голландiи, какiя Французы дѣлали жестокости и варварства, того безъ омерзѣнiя къ нимъ, на-помянуть не можно. — Потомство и о нынѣшнихъ поступ-кахъ ихъ въ Москвѣ не лучше отзовется» (IV).
Нечестивые деяния «нового Вавилона» наконец поколеблены православной верой: поступки русских людей нравственно противостоят ему. «И дѣти всѣ до нѣжна пола — / Суть Царски витязи у насъ» (21) — в примечании указывается, что здесь имеется в виду Никита Муравьев: «Двѣнадцати-лѣтнiя даже дѣти тайно отъ своихъ родителей убѣгали въ ополченiе, какъ то, сынъ покойнаго Тайнаго Совѣтника Муравьева и пр.» (IV). Еще значимый пример: «Генералъ Раевскiй выводилъ впередъ на сраженiе своихъ дѣтей» (IV). И простые крестьяне показали чудеса мужества: «Когда по оклеветанiи нѣкоторыхъ крестьянъ въ убiйствѣ Французовъ, приговорены они были къ казни; то они простясь между собою, выходили безъ всякой робости подъ ружейные выстрѣлы, ознаменовавъ себя только крестнымъ знаменiемъ» (IV).
Поэтому так важны и предзнаменования, и предначертан-ность победы, тоже подкрепленные примечаниями: «Извѣстно, что при Бородинскомъ сраженiи при осмотрѣ Россiйской армiи Княземъ Кутузовымъ, виденъ былъ парящiй надъ его главою орелъ» (IV); «Изъ реляцiи отъ 23 Августа видно, что Князь Кутузовъ предсказалъ, съ котораго мѣста Наполеонъ атаковать его будетъ, и что впустивъ въ Москву, онъ его ис-требитъ» (IV). «Смоленскiй Князь» (28) велик потому, что помнит о всегдашних русских победах на «Москвѣ, Непрядвѣ и Полтавѣ», что верен «Петру, Пожарскому, Донскому», что учили его великие «Рымникской, Таврской, Задунайской» (27). Под стать ему и сподвижники: Витгенштейн («Въ одномъ донесенiи Графа Витгенштейна видно, что легче ему было побѣждать Французовъ, нежели отъ нихъ ретироваться» (V)), Платов («Ни кто столько не безпокоилъ Наполеона, какъ сей Генералъ своими козаками, такъ что Французы названiя ихъ боялись» (V)), покойный Багратион («Почтимъ Багратiоновъ прахъ, — / Онъ живъ у насъ въ сердцахъ!» (28)).
Первый стих «Гимна…» — вариация на тему последнего стиха Апокалипсиса (и, соответственно, финала Библии): «Благословенъ Господь нашъ, Богъ!» (1). Последний стих — «Какъ пѣлъ я трехъ Царей» (34) — выглядит как итог творческого пути престарелого поэта. Он пел «трех царей» (в их числе и «юного царя», рождение которого когда-то приветствовал) — но даже в подобных «гимнах на прогнание» думал прежде всего о счастье мирного народа:
И изъ страны Россiйской всей Печаль и скорби изженутся, Въ ней токи крови не прольются, Не канутъ слезы изъ очей;
Отъ солнца пахарь не созжется, Отъ мраза бѣдный не согнется;
Сады и нивы плодъ дадутъ, Моря чрезъ горы длань прострутъ, Ключи съ ключами сожурчатся;
По рощамъ пѣсни отгласятся… (33)
Показательно, что по мере приближения к финалу «Гимна…» резко меняется и тон Державина, и его стиль, и стих. Исчезают примечания: автору уже не нужно корректировать поэтические конструкции деловой прозой. Исчезают ритмические перебивы: взволнованное размышление как будто успокаивается. В самом деле — завершилась разорительная война; завершилась «прогнанием» Зверя: «И симъ ужаснымъ бѣдствомъ Россъ / Еще превыше взросъ» (24).
«Всё будет хорошо!» — как бы восклицает поэт, заключая в этом призыве настроения русского человека в конце 1812 года. «Вновь внiйдетъ благолѣпье въ Храмы», «Скорбей прогонятъ нашихъ тѣни», «…градовъ всѣхъ русскихъ мать / Москва, по прежнему возстанетъ» (32). К монарху — Агнцу, победившему Зверя — «прострутъ ихъ длани» «Югъ, Западъ, Сѣверъ и Востокъ» (31). Вот заживем!.. А старцу поэту останется вверить свои «ветхи струны» будущим счастливым «младымъ пѣвцамъ» (34).
Таким образом, последний «из Гимнов Гимн прямой» Г. Р. Державина вовсе не кажется таким уж бессмысленным «маразматическим» сочинением, каким его увидели молодые «арзамасцы». В сущности, «старик Державин» проводил своего рода поэтический эксперимент, разрабатывавший значимые литературные приемы. Их можно свести к трем основным:
-
1. Разработка поэтики корректировки «высокого» лирического высказывания «деловой прозой» примечаний.
-
2. Поэтика волнения при поэтическом осмыслении события, происходящего, что называется, прямо на глазах. Отметим, что державинский «Гимн…» оказался, в сущности, первым художественным произведением, отразившим события «двенадцатого года»: нашествие Наполеона, оборона Смоленска, Бородинское сражение, сдача и пожар Москвы, битва под Малоярославцем, отступление Великой армии, Красное, Березина… Поэтическое осмысление создавалось как будто одновременно с событиями — и невозможно было осмысливать их эпически-спокойно, без взрывов и ритмических перебивов. В этом отношении «Гимн…» оказывается родствен, например, ораторской прозе манифестов А. С. Шишкова.
-
3. Поэтика сопряжения «сиюминутного» авторского текста — и «вечного» текста Евангелия. Именно сопряжение перипетий «прогнания французов из Отечества» с деталями Откровения св. Апостола Иоанна (Апокалипсиса) призвано подчеркнуть главную идею: итоговая победа русских над Великой армией Наполеона была предначертана еще в последней книге Священного Писания. Поэту остается только доказать эту «предначертанность» — что он и делает, используя для этого все доступные ему средства (даже и неожиданный и в общем-то чуждый Державину мистицизм).
Державин и раньше ощущал необходимость восприятия собственного творчества в контексте «особых замечаниев» — и потому озаботился появлением позднейших «Объяснений на сочинения Державина», «Ключа к сочинениям Державина» и пр. От этих замечаний post factum примечания в «Гимне…» отличаются тем, что рассчитаны на одновременное восприятие события, предстающего и в «газетном», и в художественно осмысленном ракурсе. При таком восприятии событие предстает особенно объемно.
Державин до конца жизни оставался экспериментатором — и заявленные им в «Гимне…» лирические эксперименты не пропали втуне. Они были востребованы — правда, лишь через сто лет: во многих образцах русской поэзии Серебряного века.
THE HYMN “FOR THE DRIVING AWAY”
Дата поступления в редакцию: 30.05.2016
Список литературы Гимн "На прогнание", или "Апокалипсис преложить" (о поэтике позднего Г. Р. Державина)
- Альтшуллер М. Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. -М.: НЛО, 2007. -448 с.
- Арзамас: Литературный кружок в Петербурге, 1815-1818 гг.: сб. в 2 кн./cост., подгот. текста и коммент. В. Э. Вацуро и др.; под общ. ред. В. Э. Вацуро, А. Л. Осповата. -М.: Худож. лит., 1994. -Кн. 1: Мемуарные свидетельства; Накануне «Арзамаса»; Арзамасские документы. -605 с.
- Гузаиров Т. Становление поэтического канона официальной истории: «непамятные» события в «Собрании стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году»//Новое литературное обозрение. -2012. -№ 6 (118). -С. 168-177 . -URL: http://www.nlobooks.ru/node/2898.
- Грот Я. Жизнь Державина. -М.: Алгоритм, 1997. -368 с.
- Коровин В. Л. Державин и 1812 год: О смысле и композиции «Гимна лироэпического на прогнание французов из отечества»//Известия РАН. Серия литературы и языка. -2012. -Т. 71. -№ 6. -С. 42-52.
- Коровин В. Л. Как «старик Державин» лиру передавал (о «младых певцах» и «юном царе» в «Гимне лиро-эпическом…»)//Новгородский Державинский сборник (К 200-летию со дня смерти поэта). -Великий Новгород, 2016. -С. 84-97.
- Кошелев В. А., Кошелев А. В. Г. Р. Державин в жизни и творчестве. -М.: Русское слово, 2010. -176 с.
- Проскурин О. А. Имя в «Арзамасе»//Лотмановский сборник. -М., 1995. -Т. 1. -С. 353-364.