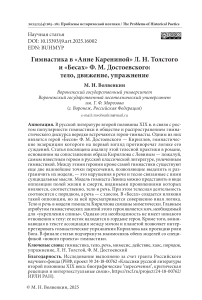Гимнастика в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого и «Бесах» Ф. М. Достоевского: тело, движение, упражнение
Автор: Волвенкин М.Н.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В русской литературе второй половины XIX в. в связи с ростом популярности гимнастики в обществе и распространением гимнастического дискурса нередко встречаются герои-гимнасты. Одним из них является герой «Бесов» Ф. М. Достоевского — Кириллов, гимнастические экзерциции которого на первый взгляд противоречат логике его суждений. Статья посвящена анализу этой телесной практики в романе, основанном на сопоставлении образа Кириллова с Левиным — пожалуй, самым известным героем в русской классической литературе, увлеченным гимнастикой. Между этими героями кроме самой гимнастики существуют еще две важнейшие точки пересечения, позволяющие выделить и разграничить их модели, — это нарушения в речи и тесно связанные с ними суицидальные мысли. Модель гимнаста Левина можно представить в виде оппозиции полей жизни и смерти, видимыми проявлениями которых являются, соответственно, тело и речь. При этом телесная деятельность соотносится с порядком, а речь — с хаосом. В «Бесах» создается иллюзия такой оппозиции, но за ней просматривается совершенно иная логика. Тело и речь в модели гимнаста Кириллова связаны миметически. Главным атрибутом гимнастических занятий этого героя является мяч, необходимый для «укрепления спины». Однако эта необходимость не имеет никакого отношения к телу: ее исток находится в гордыне героя. Кроме того, возникающая в тексте ассоциация между мячом и планетой позволяет интерпретировать гимнастические упражнения Кириллова как проекцию роли Бога. В финале статьи подчеркнута взаимосвязь обеих моделей со спецификой «нового проекта» гимнастики.
Гимнастика, тело, речь, мимесис, действие, хаос, порядок, упражнение, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский
Короткий адрес: https://sciup.org/147252386
IDR: 147252386 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.16002
Текст научной статьи Гимнастика в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого и «Бесах» Ф. М. Достоевского: тело, движение, упражнение
Г имнастика как особая телесная практика берет истоки еще в Античности. Однако с конца XVIII и почти весь XIX в. она получает новое теоретическое наполнение. Многие виды гимнастических упражнений остаются в культурной памяти, однако сам взгляд на тело заметно меняется. Основной чертой «нового проекта» гимнастики становится пристальное внимание к движению: врачи в многочисленных гимнастических пособиях и специальных исследованиях концентрируются на анализе механики тела [Вигарелло, Холт]. В течение XIX в. в Европе наблюдался рост интереса к этой телесной практике, что нашло свое отражение, в частности, в художественной литературе1.
В «Бесах» Ф. М. Достоевского среди немногочисленных занятий, которым Кириллов уделяет свое время и внимание, особое место занимает гимнастика. Впрочем, в романе есть всего два упоминания об этом. Первое (косвенное) появляется после того, как Николай Всеволодович, явившийся к Кириллову с просьбой быть секундантом, случайно застает его за игрой в мяч с полуторагодовалой девочкой: последний поясняет, что мяч привезен им из Гамбурга и нужен для «укрепления спины». В другой раз уже Петр Степанович, пришедший напомнить Кириллову об обещании, становится случайным свидетелем его гимнастических экзерциций. При этом какие-либо черты во внешнем облике героя, в его поведении не позволяют предположить в нем склонности к регулярному выполнению физических упражнений. Судя по всему, в некотором удивлении находится и са м Верховенский:
«— Вы, однако ж, о здоровье своем сильно заботитесь, — проговорил он громко и весело, входя в комнату; — какой славный, однако же, мяч, фу, как отскакивает; он тоже для гимнастики?» [Достоевский; т. 10: 319].
Верховенский же подсказывает одну из возможных трактовок вышеуказанной черты Кириллова: он потому занимается гимнастикой, что не принял еще решение лишить себя жизни. Гимнастика, по этой логике, подчеркивает в нем стремление укрепить здоровье, которое явно не согласуется с мыслью о самоубийстве. Впрочем, на внутреннюю противоречивость героя, хотя и проявляющуюся уже в другом плане, указывает и Ставрогин, заметивший в комнате у Кириллова горящую лампадку:
«— Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в Бога уверуете…» [Достоевский; т. 10: 207].
Действия Кириллова в обоих случаях не согласуются с его идеями, они раскрывают их противоречия.
А. Камю в «Мифе о Сизифе» (1942) также обращает внимание на человеческое в этом стремящемся занять место Бога герое:
«Важно прежде всего отметить, что человек, выступающий со столь безумными притязаниями, вполне от мира сего. Каждое утро он занимается гимнастикой, поддерживая здоровье. Он радуется, что к Шатову вернулась жена. На листке, который найдут после его смерти, ему хочется нарисовать "рожу с высунутым языком". Он ребячлив и гневлив, страстен, методичен и чувствителен. От сверхчеловека у него только логика, только навязчивая идея; от человека — весь остальной набор чувств » (курсив наш. — М. В .)2.
С точки зрения философа-экзистенциалиста, это расхождение между логикой рассуждения и поведением Кириллова не раскрывает его безумие, а наталкивает на иное понимание его притязаний. Это абсурдный герой, который не стремится в буквальном смысле стать Богом, а постулирует отсутствие мета физики в мире и одновременно наличие в человеке своеволия.
И все же эти рассуждения не избавляют от некоторых принципиальных вопросов. Во-первых, противоречивость Кириллова осознается только со стороны. Когда Ставрогин и Верховенский приходят к нему, они обращают внимание и даже указывают на «несвойственное» герою поведение. Однако Кириллов, претендующий на роль «человекобога» и застигнутый за вполне человеческими занятиями, нисколько не теряется и даже, как отмечает хроникер, не удивляется:
«— Ставрогин? — сказал Кириллов, приподымаясь с полу с мячом в руках, без малейшего удивления к неожиданному визиту, — хотите чаю?» [Достоевский; т. 10: 202].
Без особого смущения (только с недоброжелательностью, которая связана не с ситуацией, а с отношением к вошедшему) он реагирует на процитированную выше реплику Верховенского, «с минуту» наблюдавшего за его действиями:
«Кириллов надел сюртук.
— Да, тоже для здоровья, — пробормотал он сухо, — садитесь» [Достоевский; т. 10: 319].
Во-вторых, Достоевский наделяет Кириллова таким гимнастическим атрибутом, как мяч. Нужно отметить, что он совершенно не типичен для самых распространенных гимнастических систем XIX в.: французской (военной, «практической»), немецкой (педагогической) и шведской (врачебной). Этот предмет не только объединяет рассматриваемые нами эпизоды, но благодаря ему открывается ретроспектива: упражнения вошли в жизнь героя во время его пребывания за границей. Однако гимнаст с мячом — совершенно нетипичный образ для XIX в. Гимнастика в этом столетии переживает этап обновления, развиваются новые методы и подходы, но даже в тех гимнастических системах, где «свободные движения» оттеснены на периферию, а упражнения с использованием различных вспомогательных средств (напр., брусья, горизонтальный шест, балансовая мачта, различные виды лестниц, поперечная перекладина, гимнастический козел и гимнастический конь, железная гиря и т. д.) составляют их основу, мяч практически не используется. Он имеет место в играх, но сами игры не являются главным инструментом в физическом воспитании, как оно понималось в рамках гимнастики, а являются некоторым его дополнением3.
Кириллов оказывается гимнастом неожиданно для читателя и других героев. Левин же при первом появлении на страницах «Анны Карениной» охарактеризован Облонским так:
«— Ах да, позвольте вас познакомить, — сказал он. — Мои товарищи: Филипп Иваныч Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, — и обратившись к Левину: — земский деятель, новый, земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов , скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева» (курсив наш. — М. В .) [Толстой; т. 18: 21].
Кроме того, в этом представлении содержится указание на распространенный гимнастический атрибут — позволяющие развивать силу рук две пудовые гири, которые стоят в его кабинете. Заметим, что упражнения с гирями (хотя и не только с ними) дают результат, что отражается в теле Левина. Например, на обеде у Облонского он демонстрирует гостям свой бицепс:
«Левин улыбнулся, напружил руку, и под пальцами Степана Аркадьича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука» (курсив наш. — М. В .) [Толстой; т. 18: 404].
Помимо самих гимнастических упражнений, пусть и разных, выполняемых для здоровья — «укрепления спины» и развития силы, между героями есть еще две точки пересечения, тесно связанные с их увлечением гимнастикой и представляющие собой своеобразный смысловой комплекс.
Левин, вбежавший в одно из московских присутствий, в соматическом плане разительно выделяется на фоне остальных посетителей этого учреждения. Его внимание «поглощают», даже вызывают ненависть руки Гриневича, «с такими белыми длинными пальцами, с такими длинными, желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке» [Толстой; т. 18: 21], а сам он привлекает внимание, судя по репликам Облонского, своими мускулами и свежестью, «как у двенадцатилетней девочки» [Толстой; т. 18: 23].
Кроме того, специфичной оказывается речь героя. На вопрос о причинах прекращения своего участия в земской деятельности Левин начинает отвечать:
«— Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, — сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. — Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может…» [Толстой; т. 18: 21].
Примечательно здесь не только нарушение логики высказывания, которое должно состояться не сейчас, а «когда-нибудь», но и эмоциональная окраска: он говорит так, «как будто кто-то сейчас обидел его», «как будто кто-нибудь из присутствующих оспаривал его мнение» [Толстой; т. 18: 21, 22]. Эта речевая особенность еще отчетливее проявляется, например, в его споре с Кознышевым о «земском деле»: Левин сначала неохотно высказывает свои взгляды на пользу школ, медицинских пунктов и аптек для крестьян, но под влиянием настойчивых доводов брата постепенно «горячится» и об общей философской истине — личном счастье как двигателе всех человеческих действий — говорит так, «как будто прорвало плотину его слов», постоянно перескакивая при этом в своем рассуждении «к совершенно нейдущему к делу» [Толстой; т. 18: 260, 261].
Итак, слова Левина в этих примерах вдруг выходят из-под контроля, стихийно стремясь соответствовать хаотичному движению мысли, нарушают логический порядок высказывания, следствием чего является непонимание. Заметим, что они не только не выражают мысли, но и не передают ощущения:
«Константин Левин не любил говорить и слушать про красоту природы. Слова снимали для него красоту с того, что он видел» [Толстой; т. 18: 255].
Похожие затруднения — несоответствие слова и мысли — испытывал и сам Л. Н. Толстой на раннем этапе своего творческого пути, о чем писал еще Б. М. Эйхенбаум в работе «Молодой Толстой» (1922) [Эйхенбаум: 58–60].
О. Сливицкая в книге «"Истина в движеньи". О человеке в мире Л. Толстого» приводит интересное наблюдение: «Портрета у Левина нет — ни экспозиционного, ни лейтмотивного. Существует лишь некоторое общее впечатление от него: он сильный, мужественный, умный, застенчивый, некрасивый, — в собственных глазах, а в глазах других, по-своему привлекательный. Внутреннее у Левина — и это доминанта его личности — духовные поиски, носящие, как и у Толстого, самый общий и тем самым жгуче личный характер». Если оно верно, то причина рассматриваемой нами выше речевой особенности Левина кроется в находящейся «в глубинах его смятенного сознания» [Сливицкая: 415] авторской точке зрения, с которой он виден читателю: авторская интенция приводит здесь к дисгармонии внутреннего и внешнего, проявляющейся в невозможности адекватного выражения мысли словами.
И все же Левин присутствует в пространстве романа не только как «смятенное сознание», но и как тело. Более того, оно не просто производит некоторое «впечатление», но проявляется рельефно. Мускулы Левина, а вместе с ними его быстрые и легкие движения отчетливо видны со стороны и являются его яркой индивидуальной чертой. С одной стороны, порой нелогичная речь, а с другой — структурированное тело.
Похожей речевой особенностью обладает и Кириллов. Уже при первом описании этого героя ей уделяется значительное внимание:
«Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее» [Достоевский; т. 10: 80].
Его речь тоже временами теряет структуру, но выражается это иначе: если у Левина слова словно выходят из-под контроля в стремлении «догнать» мысль, то у Кириллова они скорее распадаются, он не может совладать с ними, но в другом плане — ему иной раз тяжело словно из пустоты нащупать мысль. Так же тяжело понять мысль другого. Например, рассуждение Николая Всеволодовича о самоубийстве как способе избавиться от стыда и позора, проиллюстрированное им примером с осуждением жителями Луны человека, совершившего там «смешные пакости» и переселившегося на планету, вызывает у Кириллова совершенное непонимание:
«— Не знаю, — ответил Кириллов, — я на луне не был, — прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта» [Достоевский; т. 10: 205].
Слова Верховенского сводятся до прямого значения, что лишает их всякого смысла.
Однако если в случае с Левиным наблюдается оппозиция беспорядочной речи и упорядоченного тела, то в случае с Кирилловым — только иллюзия оппозиции. Последний, несмотря на занятия гимнастикой, соматически почти никак не выделяется среди других героев «Бесов». Более того, в его образе жизни практически отсутствует всякое движение: он редко покидает комнату, в которой он «живет и пьет чай» [Достоевский; т. 10: 201], размышляя о своей «большой идее». Если Левин тяжело переносит бездействие, то для Кириллова нет никакой проблемы пролежать на полу четыре месяца.
Еще одна точка пересечения — мысли о самоубийстве. Конечно, их логика у Левина и Кириллова кардинально отличается. Но здесь нас интересует само их наличие, а также связь с особенностями речи героев и гимнастикой. Вид тяжело больного брата сводит для Левина все к «одному концу»:
«Я работаю, я хочу сделать что-то, а я и забыл, что всё кончится, что — смерть» [Толстой; т. 18: 368].
Теперь все его и без того нелегкие поиски сталкиваются с проблемой бренности человека, становясь и вовсе мучительными, доводя героя до отчаяния и близости к самоубийству. Однако заметим, что эта проблема все-таки занимает Левина практически с самого начала романа. Приехав в Москву, чтобы сделать предложение Кити, он останавливается у Кознышева и случайно становится свидетелем разговора брата с «известным профессором философии» о границе между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека. Левин прерывает этот диалог самым главным, как ему кажется, вопросом:
«Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть?» [Толстой; т. 18: 28].
Сама идея смерти для Левина травматична, она полностью разрушает стройный порядок его физической деятельности. Мысль о самоубийстве словно продолжает логику периодически теряющей контроль речи Левина. Можно сказать, что они соотносятся друг с другом как центр и периферия. Это отчасти напоминает размышления Ж. Лакана и С. Жижека о «символическом порядке», уничтожающем живое: «…смерть сама по себе представляет собой символический порядок, структуру, которая, подобно паразиту, подчиняет себе живое существо» [Жижек: 163]. Только у Толстого «символический порядок» скорее является «символическим хаосом».
После отказа Кити и встречи с братом Николаем Левин поднимает гири, чтобы «привести себя в состояние бодрости». По окончании спора с Кознышевым о личном счастье как двигателе всех человеческих действий он, чувствуя необходимость в физическом движении, идет косить луг. И, наконец, боясь совершить суицид, только больше занимается делами в деревне. Тело в этих случаях всегда работает как противовес. Когда мысли и рассуждения заводят Левина в тупик, тело его спасает:
«Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой всё сознающее себя, полное жизни тело , и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой» (курсив наш. — М. В. ) [Толстой; т. 18: 267];
«Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаянье; но когда он переставал спрашивать себя об этом, он как будто знал и что он такое и для чего он живет, потому что твердо и определенно действовал и жил ; даже в это последнее время он гораздо тверже и определеннее жил, чем прежде » (курсив наш. — М. В .) [Толстой; т. 19: 371].
Как бы это ни было парадоксально, тело подвержено разрушению, но оно не знает хаоса смерти и даже обладает способностью восстанавливать порядок жизни. Здесь уместно вспомнить, как относятся к смерти и телесным страданиям
Гимнастика в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого и «Бесах»… 275 «простые» герои произведений Толстого. К примеру, в рассказе «Севастополь в декабре месяце» (1855) один из солдат, лишившийся ноги в бою, поведав о пережитом, заключает:
«Оно первое дело, ваше благородие, не думать много : как не думаешь, оно тебе и ничего. Всё больше оттого, что думает человек» [Толстой; т. 4: 7].
Таким образом, модель Левина-гимнаста можно представить в виде двух полей, находящихся в оппозиции друг к другу. В центре одного из них находится смерть как высшее проявление хаоса, чуть дальше от ядра — мысли, еще дальше — речь. В центре второго поля находится жизнь как высшее проявление порядка, затем — «движенье» и тело.
Как известно, самоубийство является важнейшим положением «большой идеи» Кириллова. Р. Жирар в книге «Ложь романтизма и правда романа» (1961), рассматривая логику поведения этого героя в рамках концепции «миметического» или «треугольного» желания, заметил: «Кириллов одержим фигурой Христа. В комнате у него — икона, перед ней горят свечи. Для осознающего Верховенского Кириллов "верует пуще чем поп". Он делает из Христа Медиатора — только не в христианском, а в прометеевском, романтическом смысле слова. Именно Христу подражает в своей гордыне Кириллов. Чтобы положить конец христианству, его смерть должна быть сходна с Христовой — хотя и противоположной по смыслу. Кириллов — обезьяна искупления» [Жирар: 311]. То есть логика самоубийства Кириллова обнаруживается в гордыне, вызванной подражанием «медиатору», которым в данном случае выступает Христос. Мы полагаем, что связь между героем и его гимнастическими занятиями также прослеживается в мимесисе.
Итак, оппозиция, характерная для гимнаста-Левина, в гимнасте-Кириллове иллюзорна, а потому тело не способно выступить в качестве противовеса, позволяющего свернуть с пути самоубийства. Его «доведенный до исступления разум» [Достоевский; т. 10: 215] оказывается в полной власти над телом. Любопытно, что наши рассуждения вполне перекликаются со спецификой мимесиса в произведениях Толстого и Достоевского. Особенности описания телесности, заключающиеся в раскрытии «наиболее тонких элементов человеческой пластики, физиогномики», «заставляют» толстовский язык, как отмечает В. А. Подорога, «служить реальному». Иначе у Достоевского, который своим «подслеповатым взглядом» «не видит, а слушает»: «За языком, описывающим реальное, нет еще, собственно, ни тела, ни души, одна иллюзия, что перед нами действительно человеческая плоть, до которой можно дотронуться» [Подорога: 442, 443]. Тело гимнаста в «Анне Карениной» возвращает к порядку жизни. Гимнастика в «Бесах» лишь создает иллюзию, поэтому невольно возникает вопрос: действительно ли тело Кириллова — это тело гимнаста?
Тело встраивается в его «большую идею» не только благодаря планируемому акту самоубийства. С его точки зрения, после победы над болью и страхом мир и человек физически преобразятся:
«Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?» [Достоевский; т. 10: 102].
Здесь логика совершенно противная логике гимнастической механики, где каждое движение призвано довести до совершенства исходное строение человеческого тела, а не произвести метаморфозу. Причем возможность метаморфозы коренится не внутри тела, а в самой идее. Соответственно, если в случае с Левиным упорядоченному телу противопоставляются речевые нарушения, то в случае с Кирилловым и тело, и речь испытывают влияние придавившей его идеи.
Напомним, мяч, предназначенный для «укрепления спины», был куплен, по словам самого Кириллова, в Гамбурге. Примечательна здесь именно привязка места покупки к назначению предмета4. Кириллов приобрел мяч примерно в тот же период, когда Ставрогин «утверждал в нем ложь и клевету», а в сердце Шатова «наса ждал Бога и родину» [Достоевский; т. 10: 215].
Необходимость «укреплять спину» скорее семантически связана с характеристикой, данной хроникером Шатову, но также относящейся и к Кириллову:
«Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою , иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем » (курсив наш. — М. В. ) [Достоевский; т. 10: 27–28].
«Придавленное» состояние героя-гимнаста прослеживается в речевых нарушениях, но также и в физических упражнениях: тело не сопротивляется идее, а подражает ей в гордыне. Красноречиво первое впечатление хроникера, в котором подчеркивается не только рассеянность Кириллова, но одновременно его телосложение:
«Это был еще молодой человек, лет около двадцати семи, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет , с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску» (курсив наш. — М. В. ) [Достоевский; т. 10: 80].
«Укрепление спины» необходимо герою в силу специфики его «человекобожия», о которой, в частности, писал Жирар.
Кроме того, упражнения Кириллова с мячом можно интерпретировать как проецирование роли Бога. В «Бесах» неоднократно употребляется слово планета , синонимом которого часто выступает ( земной ) шар. Так, например, Верховенский угрожает Кириллову:
«…я вас на другом конце шара … повешу как муху… раздавлю… понимаете!» (курсив наш. — М. В .) [Достоевский; т. 10: 478].
Или Лизавета Николаевна восхищенно говорит о Маврикии Николаевиче:
«Это самый лучший и самый верный человек на всем земном шаре , и вы его непременно должны полюбить, как меня!» (курсив наш. — М. В. ) [Достоевский; т. 10: 94].
А в черновых записях к роману встречается такой ряд синонимов:
«Но мы не только живою силою поймем наконец (как понимали наконец, т. е. непосредственно живьем, но и умом), мы разрушим путы Европы, облепившие нас, и они рассыплются как паутина, и мы догадаемся наконец все сознательно, что никогда еще мир, земной шар, земля — не видали такой громадной идеи, которая идет теперь от нас, с Востока, на смену Европейских масс, чтоб возродить мир» (курсив наш. — М. В .) [Достоевский; т. 11: 308–309].
И когда Кириллов говорит: «Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль» [Достоевский; т. 10: 526], — то имеет ввиду вполне определенную геометрическую форму. «Заявить своеволие», стать Богом — значит в буквальном смысле взять земной шар, стоящий на лжи, в свои руки. Это возможно так же, как в его представлениях возможно физическое изменение человека. Гимнаст Кириллов грезит об обновлении мира. Именно в своем самоубийстве он видит отправную точку этого «переворота». И гимнастический мяч, которым он упражняется, ассоциативно соотносится с Землей. «Человекобожие» Кириллова — это новый этап жизни планеты, который он вот-вот готов начать своими руками. Таким образом, противоречие между идеей Кириллова и его гимнастическими упражнениями наблюдается только извне, тогда как изнутри идея «продолжается» в теле.
Заметим, что «новый проект» гимнастики, сформировавшийся в XIX в., имел в себе все основания как для одной, так и для другой модели героя-гимнаста. С одной стороны, она преподносилась многими преподавателями, врачами и авторами пособий как новая панацея от всевозможных телесных и душевных недугов и встраивалась в один ряд с такими практиками, как магнетизм или гомеопатия. Потому в романе Достоевского гимнастика подстраивается под «человекобожие» Кириллова. С другой стороны, в ней есть внимание к механике тела, пристальный анализ движения, основанный на изучении физиологии и анатомии мышц. Именно гимнастическая механика оказывается близка толстовской «логике порядка».
Толстой и Достоевский по-разному воспринимают и воплощают в своих текстах специфику современной им гимнастики.
Расхождения в построении моделей героев-гимнастов указывают на некоторые антитетические особенности художественной антропологии писателей. В толстовском тексте телесный порядок противопоставляется хаосу речи. Работа мускулов в гимнастических упражнениях или в труде позволяет Левину бороться с мучительными размышлениями о смерти. Благодаря движению восстанавливается структура жизни. В романе Достоевского остается иллюзия оппозиции тела и речи, но при этом само тело функционирует совершенно иначе. Кириллову, по сути, чужда идея поддержания здоровья: он не заботится о гармоничном развитии всех мышц, а только «укрепляет спину» и грезит о чуждой гимнастической теории физической метаморфозе человека. Его гимнастика не связана с реальной потребностью тела в движении. В то же время Кириллов не осознает того противоречия между мыслями о самоубийстве и гимнастикой, на которое указывают Ставрогин и Верховенский. Странное, на первый взгляд, увлечение героя стоит рассматривать во взаимосвязи с его «большой идеей». Это позволяет проследить семантические корреляции между гимнастическими упражнениями и гордыней героя, вознамерившегося занять место Бога.