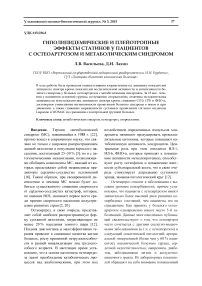Гиполипидемические и плейотропные эффекты статинов у пациентов с остеоартрозом и метаболическим синдромом
Автор: Васильева Л.В., Лахин Д.И.
Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu
Рубрика: Внутренние болезни
Статья в выпуске: 3, 2015 года.
Бесплатный доступ
В ходе работы была проведена оценка влияния аторвастатина на динамику показателей липидного спектра крови, показателей воспалительной активности и интенсивности болевого синдрома у больных остеоартрозом с метаболическим синдромом. За 12 мес. лечения у пациентов основной группы, получавших аторвастатин, отмечена положительная динамика по всем показателям липидного спектра крови, снижение СОЭ, СРБ и ФНО-α, достоверное уменьшение интенсивности проявлений болевого синдрома в покое и при движении, а также снижение выраженности суставных проявлений согласно индексам Lequesne и WOMAC по сравнению с контрольной группой больных.
Метаболический синдром, остеоартроз, аторвастатин
Короткий адрес: https://sciup.org/14113091
IDR: 14113091 | УДК: 615.036.8
Текст научной статьи Гиполипидемические и плейотропные эффекты статинов у пациентов с остеоартрозом и метаболическим синдромом
Введение. Термин «метаболический синдром» (МС), появившийся в 1988 г. [22], прочно вошел в современную науку, что связано не только с широким распространением данной патологии в популяции взрослого населения, достигающей 25–30 % [3], но и с патогенетическими механизмами, позволяющими обобщить компоненты МС, каждый из которых представляет собой независимые предикторы сердечно-сосудистых осложнений [16]. Таким образом, при своевременной диагностике и лечении МС можно будет добиться существенного снижения смертности от сердечно-сосудистых катастроф, которые, по оценкам ВОЗ, занимают первое место среди причин смертности населения индустриально развитых стран [2, 20].
Остеоартроз, в свою очередь, представляет собой наиболее распространенную форму суставной патологии, затрагивающую не менее 20 % населения земного шара [12]. Поздняя диагностика и малоэффективная терапия приводят к снижению качества жизни больных, росту временной нетрудоспособности и ранней инвалидизации лиц трудоспособного возраста. В настоящее время установлено, что в основе патогенеза остеоартроза лежит преобладание катаболических процессов над анаболическими, при этом под воздействием определенных импульсов хондроциты начинают продуцировать провоспа-лительные цитокины, которые повышают катаболическую активность хондроцитов. Центральная роль при этом отводится ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α, которые приводят к повышению активности металлопротеиназ, способствуют росту остеофитов и повышению жесткости субхондральной кости, что в свою очередь стимулирует деградацию суставного хряща, замыкая патологический круг [12].
Остеоартроз относят к заболеваниям с высоким уровнем коморбидности, причем установлено, что пациенты с остеоартрозом имеют значительно более высокий риск развития ко-морбидных состояний, чем пациенты, им не страдающие. Как правило, у больного остеоартрозом одновременно имеют место 5–6 заболеваний. Данные многочисленных публикаций свидетельствуют о том, что остеоартроз часто сочетается с другими скелетно-мышечными заболеваниями (в т.ч. с остеопорозом) и следующей соматической патологией: артериальной гипертензией (более чем у 60 % пациентов), ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, ожирением, диабетом, заболеваниями легких и желудочнокишечного тракта. Из лабораторных показателей обращают на себя внимание повышенный уровень холестерина (более чем в 30 % случаев) в крови и толерантность к глюкозе.
Остеоартроз часто сочетается с сердечнососудистой патологией, эта связь может быть обусловлена как общими патогенетическими механизмами, так и другими внешними факторами. В патогенезе остеоартроза и атеросклероза немалую роль играет неспецифическое воспаление. Ограничение физической активности пациентов является важным фактором, усугубляющим течение сердечно-сосудистых заболеваний. Хронический болевой синдром, вызывая нейроэндокринный ответ, нередко является причиной развития осложнений, имеющихся у пациента с кардиоваскулярной патологией [8].
Также на сегодняшний день получены данные о взаимосвязи остеоартроза с метаболическими нарушениями [5]. Инсулинорези-стентность, лежащая в основе МС, вызывает повышенное образование кислородных радикалов, провоцирующих эндотелиальную дисфункцию [6]. Известно, что повреждения, вызванные свободными радикалами, вносят существенный вклад в развитие как атеросклероза, так и заболеваний суставов [17]. Кроме того, обнаружена тесная корреляция между содержанием триглицеридов (ТГ) и способностью фагоцитов синтезировать ФНО-α, местная продукция которого в очаге воспаления обеспечивает хемотаксис нейтрофилов, усиление фагоцитоза, дегрануляцию фагоцитов, продукцию и секрецию ими активных форм кислорода [4]. Влияние МС на развитие остеоартроза доказывают высокий уровень ТГ у больных с полной утратой хряща по данным артроскопии и корреляция уровня ТГ с циркулирующими иммунными комплексами [1, 6]. Также были выявлены взаимосвязь между дислипидемией и окислительным стрессом с эрозивными изменениями в хряще, ассоциации МС с более тяжелым поражением суставного хряща по данным артроскопии у пациентов с остеоартрозом, осложненным вторичным синовитом [9]. Таким образом, наличие признаков МС у больных остеоартрозом ассоциируется с более тяжелым поражением хряща и рецидивирующими синовитами [15], что доказывает негативное влияние МС на течение остеоартроза.
В настоящее время «золотым стандартом» для коррекции гиперхолестеринемии является применение статинов, которые способны блокировать ГМГ-КоА-редуктазу, ограничивая скорость биосинтеза холестерина. В отношении ряда синтетических статинов, в частности аторвастатита, было отмечено благоприятное воздействие не только на показатели общего холестерина и ХС ЛПНП, но и на показатели ХС ЛПВП и ТГ [12]. Кроме того, был открыт целый ряд плейотропных эффектов данной группы препаратов, в числе которых противовоспалительное действие, вазодилатация, антиоксидантный и антиагрегантный эффекты [19, 21].
Цель исследования. Оценить гиполипи-демические, а также плейотропные возможности аторвастатина в отношении воспалительной реакции и суставных проявлений у коморбидных пациентов с остеоартрозом и МС.
Материалы и методы. В обследование были включены 70 больных остеоартрозом с МС. Все пациенты находились на стационарном лечении в ревматологическом отделении Липецкой областной клинической больницы в 2012–2014 гг. Обследованные больные были подразделены на две группы. В группу сравнения, состоящую из 35 чел. (27 женщин и 8 мужчин в возрасте от 47 до 74 лет (средний возраст – 56,90±1,37 года)), вошли больные остеоартрозом с диагностированным МС, получавшие патогенетическое лечение остеоартроза. В основной группе оказалось 35 пациентов (27 женщин и 8 мужчин в возрасте от 49 до 69 лет (57,20±1,28 года)) с остеоартрозом и МС, получавших на фоне патогенетической терапии остеоартроза аторвастатин. Достоверных различий по длительности основного заболевания (остеоартроза) в обеих группах отмечено не было: она составила в основной группе 8,90±0,68 года, в группе сравнения – 8,40±0,63 года.
При поступлении в стационар у всех больных, включенных в исследование, был диагностирован МС на основании критериев, разработанных комитетом экспертов Международной федерации диабета (IDF, 2005). Длительность течения остеоартроза составила у 34,4 % больных до 5 лет, у 38,7 % – 5–10 лет, у 26,9 % пациентов – более 10 лет. При рентгенологическом исследовании изменения II степени (по I. Kellgren и I. Lawerens) были выявлены у всех 100 % больных. Наличие синовитов выявлялось клинически и подтверждалось инструментально (с помощью УЗ-диагностики суставов). Среди сопутствующей патологии отмечалась артериальная гипертензия (100 %), ожирение (100 %), дислипидемия (100 %), ИБС (82,4 %).
Определение тяжести суставного синдрома осуществлялось путем оценки интенсивности болевого синдрома в покое и при движении по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Этот тест отражает общую выраженность суставной боли по оценке больного с использованием 100-миллиметровой шкалы боли, где 0 означает отсутствие боли, а 100 – максимальную интенсивность боли [11]. Индекс Лекена подсчитывался исходя из суммы баллов, полученных при ответах на группы вопросов, ориентированных на оценку боли и дискомфорта, по максимальному расстоянию, проходимому без боли, и наличию трудностей в повседневной жизни. Индекс WOMAC (Western Ontario and McMaster University) определялся с помощью опросника для самостоятельной оценки пациентом выраженности боли в покое и при ходьбе (5 вопросов), выраженности и длительности скованности (2 вопроса) и функциональной недостаточности в повседневной деятельности (17 вопросов). При этом оценка проводилась по шкале ВАШ (в см), а затем все показатели суммировались [11].
Во время стационарного лечения пациенты обеих групп получали нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): ни-месулид (100 мг 2 раза в день) либо мелокси-кам (15 мг утром), хондроитин (100 мг в/м), при наличии синовитов внутрисуставно вводили лорноксикам (8 мг) после пункции сустава. Амбулаторно пациенты также получали симптом-модифицирующие препараты медленного действия (хондроитин сульфат (1000 мг/сут) и глюкозамин (1500 мг/сут) по 3 мес. 2 курса в год). НПВП системно амбулаторно пациенты обеих групп не принимали. Также пациенты получали препараты ацетилсалициловой кислоты и гипотензивные метаболически нейтральные средства – ингибиторы АПФ и блокаторы кальциевых каналов (дигидропиридины). При осмотре (спустя 3, 6 и 12 мес.) и наличии синовитов пациентам вводили 8 мг лорноксикама внутрисуставно после пункции сустава. Аторвастатин (Липто-норм®) назначался пациентам основной группы по 10 мг/сут на протяжении 12 мес.
В контрольной и основной группах отслеживались показатели липидного спектра крови: суммарный холестерин, триглицериды, холестерин липопротеидов высокой (ХС ЛПВП) и низкой (ХС ЛПНП) плотности (колориметрическим методом). Также оценивались показатели воспалительной активности: СОЭ (по Вестергрену), С-реактивный белок (СРБ) (количественным методом), фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) (иммуно-ферментным методом с иcпользованием наборов Duoset). Интенсивность суставного синдрома оценивалась по шкале ВАШ в покое и при движении, индексами Lequesne и WOMAC на 1–3-й, 7–10-й дни стационарного лечения, а также спустя 3, 6 и 12 мес.
Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере с помощью программы Microsoft Excell пакета Microsoft Office 2003. Подсчитывали величину средней, ошибки средней. Достоверность различий изученных показателей в контрольной и основной группах определяли по критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение. На фоне применения аторвастатина в основной группе больных за время наблюдения нежелательных побочных реакций на препарат, потребовавших его отмены, зарегистрировано не было.
В контрольной группе больных статистически достоверных изменений уровня общего холестерина обнаружено не было. На фоне диеты за время стационарного лечения отмечалась незначительная тенденция к снижению данного показателя (на 0,5 %), в дальнейшем наблюдалась обратная тенденция – к росту уровня холестерина суммарного (на 0,35 % через 3 мес., 1,2 % через 6 мес., 3,5 % к концу исследования). Значения уровня триглицеридов имели аналогичные тенденции: к снижению на 7–10-е сут лечения в стационаре (на 2,6 %) и последующему росту
(на 1,7 % через 3 мес., 4,7 % через 6 мес., 7,3 % спустя 12 мес.).
Среди пациентов, получавших аторвастатин, было отмечено достоверное снижение показателя общего холестерина на 7–10-е сут терапии на 14,4 % (p<0,001); в дальнейшем данный показатель снижался, составив 73,3 % от первоначального значения (p<0,001) через 3 мес., 71,5 % (p<0,001) – через 6 мес., 68,7 % (p<0,001) – к концу исследования. Показатель триглицеридов в основной группе снизился на 7–10-е сут на 7,8 %, через 3 мес. – на 12,8 %. В дальнейшем отмечалось достоверное снижение данного показателя на 14,9 % (p<0,01) через 6 мес. и на 17,4 % (p<0,01) через 12 мес.
Показатели общего холестерина в контрольной и основной группах имели достоверные различия на 7–10-е сут (p<0,01), спустя 3, 6 и 12 мес. (p<0,001). Уровень триглицеридов в основной группе имел достоверно меньшие значения через 6 мес. (p<0,05) и 12 мес. (p<0,01) (табл. 1).
В контрольной группе больных ХС ЛПВП на 7–10-е сут увеличился на 2,9 %, однако через 3 и 6 мес. снизился на 4,8 и 5,8 % соответственно. К концу исследования наблюдалось достоверное снижение ХС ЛПВП на 12,5 % (p<0,01). ХС ЛПНП за время стационарного лечения снизился на 8,3 %, а через 3 и 6 мес. повысился на 2,5 и 5,3 % соответственно; к исходу 12 мес. было отмечено достоверное увеличение данного показателя на 10,5 % (p<0,01).
У пациентов, принимавших аторвастатин, на 7–10-е сут ХС ЛПВП вырос на 8,5 %; в дальнейшем удалось достичь достоверного увеличения его уровня до 113,2 % (p<0,05) через 3 мес., до 116,0 % (p<0,01) через 6 мес. и до 118,8 % к концу исследования. Значения ХС ЛПНП достоверно уменьшились уже на 7–10-е сут (на 18,9 %; p<0,001) и в дальнейшем продолжали снижаться, составив 65,2 % от первоначальных значений через 3 мес. (p<0,001), 63,7 % через 6 мес. (p<0,001) и 61,3 % к концу исследования (p<0,001).
Динамика показателей липидного спектра в контрольной и основной группах пациентов за 12 мес.
Таблица 1
|
Показатель |
Группа |
1–3-и сут |
7–10-е сут |
Через 3 мес. |
Через 6 мес. |
Через 12 мес. |
|
Суммарный холестерин, ммоль/л |
Контрольная |
5,70±0,15 |
5,67±0,13 |
5,72±0,14 |
5,77±0,15 |
5,90±0,13 |
|
Основная |
6,03±0,15 |
5,16±0,12 |
4,42±0,10 |
4,31±0,11 |
4,14±0,10 |
|
|
p |
нд |
<0,01 |
<0,001 |
<0,001 |
<0,001 |
|
|
Триглицериды, моль/л |
Контрольная |
2,33±0,13 |
2,27±0,12 |
2,37±0,12 |
2,44±0,13 |
2,50±0,13 |
|
Основная |
2,42±0,14 |
2,23±0,13 |
2,11±0,12 |
2,06±0,10 |
2,00±0,11 |
|
|
p |
нд |
нд |
нд |
<0,05 |
<0,01 |
|
|
ХС ЛПВП, ммоль/л |
Контрольная |
1,04±0,04 |
1,07±0,03 |
0,99±0,03 |
0,98±0,03 |
0,91±0,02 |
|
Основная |
1,06±0,04 |
1,15±0,04 |
1,20±0,04 |
1,23±0,03 |
1,26±0,03 |
|
|
p |
нд |
нд |
<0,001 |
<0,001 |
<0,001 |
|
|
ХС ЛПНП, ммоль/л |
Контрольная |
3,99±0,11 |
3,66±0,10 |
4,09±0,09 |
4,20±0,09 |
4,41±0,09 |
|
Основная |
4,08±0,13 |
3,31±0,12 |
2,66±0,12 |
2,60±0,10 |
2,50±0,08 |
|
|
p |
нд |
нд |
нд |
<0,01 |
<0,001 |
|
Примечание. Здесь и в последующих таблицах «нд» обозначает недостоверность различий показателей.
При сравнении показателей ХС ЛПВП и ХС ЛПНП среди пациентов обеих групп выяснялось, что в основной группе значения ХС ЛПВП были достоверно выше через 3, 6 и 12 мес. терапии (p<0,001), а значения ХС ЛПНП – достоверно ниже уже на 7–10-е сут (p<0,05) и через 3, 6 и 12 мес. (p<0,001).
Среди пациентов контрольной группы на фоне комплексного лечения в стационарных условиях было отмечено достоверное снижение значений СОЭ на 7–10-е сут лечения (табл. 2). Однако в дальнейшем в связи с отсутствием регулярного применения НПВП данный показатель повышался. К концу ис- следования значения СОЭ в контрольной группе больных достоверно увеличились до 18,90±0,59 мм/ч (p<0,05). Показатель СРБ также достоверно снизился 7–10-е сут лечения, а в дальнейшем имел тенденции к росту. Значения ФНО-α достоверно уменьшились на 7–10-е сут и затем повышались (табл. 2).
В основной группе больных значения СОЭ, СРБ и ФНО-α снижались на протяжении всего исследования. При сравнении показателей СОЭ, СРБ и ФНО-α в контрольной и основной группах выяснилось, что данные показатели были достоверно ниже в основной группе больных через 3, 6 и 12 мес. (p<0,001).
Таблица 2
|
Показатель |
Группа |
1–3-и сут |
7–10-е сут |
Через 3 мес. |
Через 6 мес. |
Через 12 мес. |
|
СОЭ, мм/ч |
Контрольная |
17,10±0,65 |
14,70±0,41** |
17,70±0,56 |
18,40±0,57 |
18,90±0,59* |
|
Основная |
17,90±0,74 |
14,20±0,43*** |
13,90±0,37*** |
13,50±0,32*** |
12,20±0,34*** |
|
|
p |
нд |
нд |
<0,001 |
<0,001 |
<0,001 |
|
|
СРБ, мг/л |
Контрольная |
14,40±0,62 |
6,50±0,23*** |
14,10±0,38 |
14,80±0,54 |
16,20±0,72 |
|
Основная |
13,70±0,61 |
6,20±0,21*** |
5,70±0,20*** |
5,10±0,23*** |
4,40±0,22*** |
|
|
p |
нд |
нд |
<0,001 |
<0,001 |
<0,001 |
|
|
ФНО-α, пг/мл |
Контрольная |
8,30±0,54 |
6,70±0,33* |
7,80±0,27 |
8,10±0,28 |
8,40±0,31 |
|
Основная |
8,60±0,49 |
6,50±0,40** |
6,10±0,33*** |
5,70±0,28*** |
5,10±0,26*** |
|
|
p |
нд |
нд |
<0,001 |
<0,001 |
<0,001 |
|
Примечание. Достоверное отличие показателя от первоначального при: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
Динамика показателей СОЭ, СРБ и ФНО-α в контрольной и основной группах пациентов за 12 мес.
Пациентам обеих групп во время стационарного лечения проводилась адекватная терапия, в результате чего было отмечено достоверное снижение выраженности болевого синдрома по шкале ВАШ в покое и при движении на 7–10-е сут (p<0,001). Однако в дальнейшем в контрольной группе больных оба показателя не имели достоверных изменений по сравнению с первоначальными значениями, в то время как в группе больных, получавших аторвастатин, выраженность боли в покое и при движении на протяжении всего исследования была достоверно ниже значений, полученных на 1–3-и сут (p<0,001) (табл. 3).
При сравнении выраженности болевого синдрома среди больных контрольной и основной групп было установлено, что выраженность боли в покое среди пациентов, получавших аторвастатин, была достоверно ниже через 3, 6 и 12 мес., а болевой синдром в данной группе больных при движении был достоверно менее выражен спустя 6 и 12 мес. по сравнению с аналогичным показателем у пациентов контрольной группы (табл. 3).
Динамика показателей суставного статуса в контрольной и основной группах больных за 12 мес.
Таблица 3
|
Показатель |
Группа |
1–3-и сут |
7–10-е сут |
Через 3 мес. |
Через 6 мес. |
Через 12 мес. |
|
ВАШ при движении, мм |
Контрольная |
56,50±0,67 |
30,60±0,55 |
53,30±1,86 |
55,20±1,54 |
57,10±1,55 |
|
Основная |
57,90±0,68 |
31,40±0,43 |
51,90±0,83 |
49,70±0,77 |
46,20±0,83 |
|
|
p |
нд |
нд |
нд |
<0,01 |
<0,001 |
|
|
ВАШ в покое, мм |
Контрольная |
20,60±1,49 |
10,70±0,6 |
18,90±1,57 |
20,10±1,54 |
21,50±1,62 |
|
Основная |
23,30±1,52 |
11,20±0,73 |
13,10±0,86 |
11,40±0,68 |
10,80±0,44 |
|
|
p |
нд |
нд |
<0,01 |
<0,001 |
<0,001 |
|
|
Lequesne, баллы |
Контрольная |
10,50±1,17 |
7,20±0,20 |
9,10±0,47 |
10,30±0,30 |
10,60±0,29 |
|
Основная |
11,10±0,41 |
7,70±0,21 |
9,00±0,24 |
8,70±0,25 |
7,90±0,21 |
|
|
p |
нд |
нд |
нд |
<0,001 |
<0,001 |
|
|
WOMAC, см |
Контрольная |
104,10±1,77 |
65,70±1,47 |
99,70±3,12 |
107,00±1,77 |
111,00±1,82 |
|
Основная |
110,30±1,97 |
69,30±0,91 |
98,70±0,99 |
94,70±0,82 |
92,10±0,21 |
|
|
p |
<0,05 |
<0,05 |
нд |
<0,001 |
<0,001 |
|
В обеих группах больных удалось достичь достоверного снижения индексов Lequesne и WOMAC на 7–10-е сут (p<0,001), однако в контрольной группе больных в дальнейшем эти показатели достоверно не отличались от первоначальных, а индекс WOMAC достоверно вырос на 6,7 % к концу исследования (p<0,01). У пациентов основной группы удалось достичь стабильно достоверно более низких значений обоих показателей (p<0,001).
При сравнении индексов Lequesne и WOMAC среди пациентов обеих групп оказалось, что индекс WOMAC изначально и на 7–10-е сут в контрольной группе больных был достоверно ниже (p<0,05), однако спустя 6 и 12 мес. пациенты, принимавшие аторвастатин, имели достоверно более низкие значения обоих индексов (p<0,001) (табл. 3).
В настоящее время в мире статины заняли прочное местно в терапии сердечнососудистых заболеваний в связи со снижением смертности и улучшением прогноза у па- циентов с ИБС и другими проявлениями атеросклероза, а также в лечении нарушений липидного обмена [14]. МС сам по себе представляет собой набор синдромов, каждый из которых является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых катастроф. Данный факт подтверждает необходимость включения статинов в терапию больных МС. Кроме того, полученные данные о плейо-тропных эффектах данной группы препаратов позволяют судить и о благоприятном воздействии на эндотелиальную дисфункцию, микроциркуляцию, а также о противовоспалительных эффектах статинов [10, 13, 19, 21]. В литературе имеются данные об эффективности применения статинов в отношении суставного статуса у больных ревматоидным артритом. Так, было отмечено, что применение симвастатина на фоне патогенетической терапии ревматоидного артрита привело к снижению активности артрита, уменьшению числа припухших и болезненных суставов, улучшению субъективного состояния [7].
Противовоспалительное действие статинов, вероятно, обусловлено их плейотропны-ми эффектами на пролиферацию, дифференцировку и функции клеток иммунной системы, эндотелиоцитов. Одним из ключевых механизмов влияния статинов на воспаление предположительно является уменьшение при их применении содержания таких производных мевалоната, как фарнезил и геранил-геранилпирофосфат. Подавляя синтез данных молекул, статины влияют на биологическую функцию более 100 протеинов [18]. Также блокада пренилирования приводит к уменьшению активности ферментов, участвующих в проведении сигнала от Т-клеточного рецептора, CD28-костимуляторного рецептора и рецептора ИЛ-2, и тем самым – к противовоспалительным эффектам [23].
В нашем исследовании были подтверждены положительные эффекты аторвастатина в отношении показателей липидного спектра крови. Так, под влиянием препарата удалось достичь достоверного снижения значений суммарного холестерина, триглицеди-ров и ХС ЛПНП при достоверном увеличении ХС ЛПВП. Также препарат реализовал свои плейотропные противовоспалительные эффекты: пациенты, получавшие аторвастатин, имели достоверно более низкие значения СОЭ, СРБ и ФНО-α. Также было реализовано плейотропное воздействие препарата и в отношении суставного статуса у больных остеоартрозом с МС. Отмечено положительное влияние препарата в отношении болевого синдрома у пациентов как в покое, так и при движении. На фоне приема аторвастатина в дозировке 10 мг/сут на протяжении 12 мес. нежелательных побочных реакций, требующих отмены препарата, отмечено не было. Достоверно более эффективным оказалось лечение пациентов, принимавших аторвастатин, по отношению к больным контрольной группы спустя 6 и 12 мес. по индексу ВАШ в покое и при движении, индексу Lequesne и WOMAC, т.е. по всем основным показателям суставного статуса.
Заключение. На сегодняшний день статины активно используются в терапии атеросклеротического процесса среди больных с гиперхолестеринемией и высоким риском кардиоваскулярных катастоф. При этом широкое применение данной группы препаратов на практике позволяет выявлять новые плейотропные эффекты у коморбидных пациентов. Полученные в данном исследовании результаты доказывают положительное влияние статинов не только на показатели липидного спектра крови, но и в отношении суставного статуса, способствуя уменьшению боли и воспаления в суставах, улучшению субъективного состояния пациентов, а также уменьшению воспалительной активности при остеоартрозе, что совершенно очевидно открывает новые горизонты в использовании данной группы препаратов.
-
1. Балаболкин М. И. Патогенез и механизмы развития ангиопатий при сахарном диабете / М. И. Балаболкин, Е. М. Клебанова, В. М. Кре-минская // Кардиология. – 2000. – № 10. – С. 74–87.
-
2. Бутрова С. А. Метаболический синдром: патогенез, клиника, диагностика, подходы к лечению / С. А. Бутрова // Российский мед. журн. – 2001. – № 2. – С. 56–60.
-
3. Дедов И. И. Ожирение. Метаболический синдром. Сахарный диабет 2 типа / И. И. Дедов. – М., 2000. – 106 с.
-
4. Доценко Э. А. Холестерин и липопротеиды низкой плотности как эндогенные иммуномодуляторы / Э. А. Доценко, Г. И. Юпатов, А. А. Чиркин // Клиническая иммунология. – 2001. – № 3. – С. 6–15.
-
5. Збровский А. Б. Ферменты пуринового метаболизма в диагностике и дифференциальной диагностике остеоартроза и подагрического артрита / А. Б. Збровский, М. Ю. Стажаров, В. Ф. Мартемьянов // Тер. архив. – 2000. – № 4. – С. 21–24.
-
6. Ивлева А. Я. Новые перспективы превентивной фармакотерапии при метаболическом синдроме / А. Я. Ивлева // Тер. архив. – 2005. – № 4. – С. 90–93.
-
7. Клиническая эффективность статинов при ревматоидном артрите – пилотное исследование / И. В. Ширинский [и др.] // Медицинская иммунология. – 2007. – № 4–5. – С. 505–508.
-
8. Коморбидность при остеоартрозе: рациональные подходы к лечению больного / О. И. Мендель [и др.] // Русский мед. журн. – 2009. – Т. 17, № 21. – С. 1472–1475.
-
9. Кратнов А. Е. Связь первичного остеоартроза и метаболического синдрома / А. Е. Крат-нов, К. В. Курылева, А. А. Кратнов // Клиническая медицина. – 2006. – № 6. – С. 42–46.
-
10. Лахин Д. И. Эффективность аторвастатина (липтонорма) в отношении основных проявлений метаболического синдрома у больных остеоартро-
зом / Д. И. Лахин // Аспирантский вестн. Поволжья. – 2010. – № 3–4. – С. 38–44.
-
11. Международные индексы оценки активности, функционального статуса и качества жизни больных ревматическими заболеваниями. – М. : Ассоциация ревматологов России, 2007. – 78 с.
-
12. Насонов Е. Л. Ревматология: национальное руководство / Е. Л. Насонов, В. А. Насонова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 714 c.
-
13. Сусеков А. В. Рандамизированное исследование «ФАРВАТЕР»: эффект аторвастатина 10 и 20 мг/сут на уровень липидов, С-реактивного белка и фибриногена у больных с ИБС и дислипидемией / А. В. Сусеков, М. Ю. Зубарева, М. И. Трипотень // Русский мед. журн. – 2006. – Т. 14, № 10. – С. 790–795.
-
14. Чазов Е. И. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний : руководство для практикующих врачей / Е. И. Чазов, Ю. Н. Беленков, Е. О. Борисова. – М. : Литтерра, 2004. – 972 с.
-
15. Bailey C. J. Metformin / C. J. Bailey, R. C. Turner // N. Engl. J. Med. – 1996. – Vol. 334, № 9. – P. 574–579.
-
16. Daskalopoulou S. S. Prevention and treatment of metabolic syndrome / S. S. Daskalopoulou,
-
D. P. Mikhailidis, M. Elisaf // Angiology. – 2004. – Vol. 55, № 6. – P. 589–612.
-
-
17. Droge W. Free radical in the physiological control of cell function / W. Droge // Physiol. Rev. – 2002. – Vol. 82. – P. 45–47.
-
18. Greenwood J. Statin therapy and autoimmune disease: from protein prenylation to immunomodulation / J. Greenwood, L. Steinman, S. S. Zamvil // Nat. Rev. Immunol. – 2006. – Vol. 6. – P. 358–370.
-
19. Halcox J. P. Beyond the laboratory: clinical implications for statin pleiotropy / J. P. Halcox // Circulation. – 2004. – Vol. 109, № 21. – P. 42–48.
-
20. Lemieux S. Genetic susceptibility to visceral obesity and related clinical implications / S. Lemieux // Int. J. of Obes. – 1997. – Vol. 21, № 10. – P. 831–838.
-
21. Liao J. K. Clinical implications for statin pleiotropy / J. K. Liao // Curr. Opin. Lipidol. – 2005. – Vol. 16, № 6. – P. 624–629.
-
22. Reaven G. V. Role of insulin resistance in human disease / G. V. Reaven // Diabetes. – 1988. – Vol. 37. – P. 1595–1607.
-
23. Si M. S. Inhibition of lymphocyte activation and function by the prenylation inhibitor L-778,123 / M. S. Si, B. A. Reitz, D. C. Borie // Invest. New Drugs. – 2005. – Vol. 23. – P. 21–29.
LIPID-LOWERING AND PLEIOTROPIC EFFECTS OF STATINS IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS AND METABOLIC SYNDROME
L.V. Vasilyeva, D.I. Lakhin
Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Lipetsk Regional Clinical Hospital
Список литературы Гиполипидемические и плейотропные эффекты статинов у пациентов с остеоартрозом и метаболическим синдромом
- Балаболкин М. И. Патогенез и механизмы развития ангиопатий при сахарном диабете/М. И. Балаболкин, Е. М. Клебанова, В. М. Креминская//Кардиология. -2000. -№ 10. -С. 74-87.
- Бутрова С. А. Метаболический синдром: патогенез, клиника, диагностика, подходы к лечению/С. А. Бутрова//Российский мед. журн. -2001. -№ 2. -С. 56-60.
- Дедов И. И. Ожирение. Метаболический синдром. Сахарный диабет 2 типа/И. И. Дедов. -М., 2000. -106 с.
- Доценко Э. А. Холестерин и липопротеиды низкой плотности как эндогенные иммуномодуляторы/Э. А. Доценко, Г. И. Юпатов, А. А. Чиркин//Клиническая иммунология. -2001. -№ 3. -С. 6-15.
- Збровский А. Б. Ферменты пуринового метаболизма в диагностике и дифференциальной диагностике остеоартроза и подагрического артрита/А. Б. Збровский, М. Ю. Стажаров, В. Ф. Мартемьянов//Тер. архив. -2000. -№ 4. -С. 21-24.
- Ивлева А. Я. Новые перспективы превентивной фармакотерапии при метаболическом синдроме/А. Я. Ивлева//Тер. архив. -2005. -№ 4. -С. 90-93.
- Клиническая эффективность статинов при ревматоидном артрите -пилотное исследование/И. В. Ширинский //Медицинская иммунология. -2007. -№ 4-5. -С. 505-508.
- Коморбидность при остеоартрозе: рациональные подходы к лечению больного/О. И. Мендель //Русский мед. журн. -2009. -Т. 17, № 21. -С. 1472-1475.
- Кратнов А. Е. Связь первичного остеоартроза и метаболического синдрома/А. Е. Кратнов, К. В. Курылева, А. А. Кратнов//Клиническая медицина. -2006. -№ 6. -С. 42-46.
- Лахин Д. И. Эффективность аторвастатина (липтонорма) в отношении основных проявлений метаболического синдрома у больных остеоартрозом/Д. И. Лахин//Аспирантский вестн. Поволжья. -2010. -№ 3-4. -С. 38-44.
- Международные индексы оценки активности, функционального статуса и качества жизни больных ревматическими заболеваниями. -М.: Ассоциация ревматологов России, 2007. -78 с.
- Насонов Е. Л. Ревматология: национальное руководство/Е. Л. Насонов, В. А. Насонова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -714 c.
- Сусеков А. В. Рандамизированное исследование «ФАРВАТЕР»: эффект аторвастатина
- и 20 мг/сут на уровень липидов, С-реактивного белка и фибриногена у больных с ИБС и дислипидемией/А. В. Сусеков, М. Ю. Зубарева, М. И. Трипотень//Русский мед. журн. -2006. -Т. 14, № 10. -С. 790-795.
- Чазов Е. И. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: руководство для практикующих врачей/Е. И. Чазов, Ю. Н. Беленков, Е. О. Борисова. -М.: Литтерра, 2004. -972 с.
- Bailey C. J. Metformin/C. J. Bailey, R. C. Turner//N. Engl. J. Med. -1996. -Vol. 334, № 9. -P. 574-579.
- Daskalopoulou S. S. Prevention and treatment of metabolic syndrome/S. S. Daskalopoulou, D. P. Mikhailidis, M. Elisaf//Angiology. -2004. -Vol. 55, № 6. -P. 589-612.
- Droge W. Free radical in the physiological control of cell function/W. Droge//Physiol. Rev. -2002. -Vol. 82. -P. 45-47.
- Greenwood J. Statin therapy and autoimmune disease: from protein prenylation to immunomodulation/J. Greenwood, L. Steinman, S. S. Zamvil//Nat. Rev. Immunol. -2006. -Vol. 6. -P. 358-370.
- Halcox J. P. Beyond the laboratory: clinical implications for statin pleiotropy/J. P. Halcox//Circulation. -2004. -Vol. 109, № 21. -P. 42-48.
- Lemieux S. Genetic susceptibility to visceral obesity and related clinical implications/S. Lemieux//Int. J. of Obes. -1997. -Vol. 21, № 10. -P. 831-838.
- Liao J. K. Clinical implications for statin pleiotropy/J. K. Liao//Curr. Opin. Lipidol. -2005. -Vol. 16, № 6. -P. 624-629.
- Reaven G. V. Role of insulin resistance in human disease/G. V. Reaven//Diabetes. -1988. -Vol. 37. -P. 1595-1607.
- Si M. S. Inhibition of lymphocyte activation and function by the prenylation inhibitor L-778,123/M. S. Si, B. A. Reitz, D. C. Borie//Invest. New Drugs. -2005. -Vol. 23. -P. 21-29.