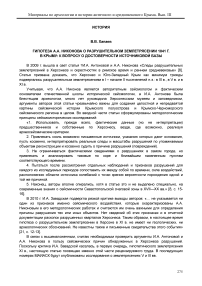Гипотеза А.А. Никонова о разрушительном землетрясении 1041 г. в Крыму: к вопросу о достоверности источниковой базы
Автор: Хапаев В.В.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 3, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется аргумент, приводимый сейсмологом Андреем Никоновым в пользу гипотезы разрушительного землетрясения в Крыму в 11 веке. Аргументы были выдвинуты в совместной статье с Инной Антоной «Восстания разрушительных землетрясений в Херсонесе и его окрестностях в римское время и ранне-средневековый период». Автор приходит к выводу, что аргументы А. Никонова основаны на ошибочном использовании археологических данных и перемещении артефактов, относящихся к разным временам (с 5-го по 19-й век) до 11-го века, чтобы доказать гипотезу землетрясения. Об этом критикует А. Никонов, датированный этим землетрясением на 1041 год, как это, предположительно, упоминал Джон Скилица в истории восстания Питера Деляна.
Короткий адрес: https://sciup.org/14118045
IDR: 14118045
Текст научной статьи Гипотеза А.А. Никонова о разрушительном землетрясении 1041 г. в Крыму: к вопросу о достоверности источниковой базы
Учитывая, что А.А. Никонов является авторитетным сейсмологом и фактическим основателем отечественной школы исторической сейсмологии, а И.А. Антонова была блестящим археологом, много лет руководила Херсонесским музеем и заповедником, аргументы авторов этой статьи чрезвычайно важны для создания целостной и непредвзятой картины сейсмической истории Крымского полуострова и Крымско-Черноморского сейсмического региона в целом. Во вводной части статьи сформулированы методологические принципы сейсмоисторических исследований:
-
«1 . Использовать, прежде всего, фактические данные (но не интерпретации) предшественников и собственные по Херсонесу, везде, где возможно, реализуя археосейсмические критерии.
-
2. Привлекать сколь возможно письменные источники, указания которых дают основания, пусть косвенно, интерпретировать реальные следы и масштабы разрушений по упоминаемым объектам реконструкции и косвенно судить о причине разрушений (повреждений).
-
3. Не ограничиваться фактическими сведениями о разрушениях в самом городе, но привлекать и анализировать таковые по хоре и ближайшим населенным пунктам соответствующего времени.
-
4. Пытаться после рассмотрения отдельных наблюдений и признаков разрушений для каждого из исследуемых периодов сопоставить их между собой по времени, силе воздействий, расположению области источника колебаний с точки зрения вероятности порождения одной и той же причиной.
-
5. Наконец, авторы вполне опирались, хотя в статье это и не выделено специально, на современные знания о сейсмичности Севастопольской очаговой зоны в XVII—XX вв.» [8, с. 1516].
В 2010 г. И.А. Завадская подвергла резкой критике выводы авторов: «… не указывается ни один из признаков именно сейсмического воздействия, которые охарактеризованы А.А. Никоновым в его методологических работах и считаются им очень важными для определения причины разрушения тех или иных объектов. Нет сведений об этих признаках и в отчетной документации раскопок разрушенных кварталов Херсонеса. Таким образом, в настоящее время гипотеза о разрушительном землетрясении в Херсоне в XI в. не имеет ни геологических, ни археологических обоснований. Не известны также и письменные свидетельства этого события» [21, с. 12-13].
В связи с вышеизложенным, считаю необходимым проверить аргументы И.А. Антоновой и А.А. Никонова в пользу сейсмических причин обнаруженных в Херсонесе разрушений. Поскольку критика И.А. Завадской касалась, в первую очередь, гипотетического землетрясения XI в., настоящую статью посвящаю именно этой части рецензируемого труда. В последующих номерах МАИАСК будут опубликованы исследования о землетрясениях V и III вв.
Вначале необходимо определиться с соавторством статьи, т.к. А.А. Никонов предпосылает ей следующее примечание: «Статья в объеме около 1 а.л. была написана непосредственно перед кончиной И.А. Антоновой в 2000 году, но по ряду причин публикация ее сильно задержалась. Подготовка статьи к печати со значительным добавлением авторского текста А.А. Никонова (выделено мной – В.Х.) проведена при финансовой поддержке РГНФ…». Опубликованный объем статьи - 5 а.л., т.е. в 5 раз превышает первоначальный. При этом А.А. Никонов не указывает, какая часть текста написана лично им после смерти И.А. Антоновой, и какие из изложенных в статье положений принадлежат обоим авторам и согласованы ими, а какие – только А.А. Никонову. Поэтому, далее по тексту статьи я буду вынужден анализировать ее как принадлежащую перу одного А.А. Никонова, т.к., в отличие от И.А. Антоновой, у него есть возможность ответить на критику.
О землетрясении XI в. автор формулирует следующие гипотезы:
-
1. Оно упоминается в трудах Иоанна Скилицы и Георгия Кедрина под 1041 годом [8, с. 3133].
-
2. Строительная надпись Льва Алиата о сооружении ворот претория и возобновлении других ворот города, датируемая 1059 г., фиксирует завершение восстановительных работ через 18 лет после землетрясения [8, с. 33].
-
3. Следы разрушений XI в. имеются по обе стороны 19-й куртины оборонительной стены. Они были выявлены раскопками К.Э. Гриневича и Г.Д. Белова в 1926 г. [8, с. 33-34].
-
4. На руинах Базилики 1935 г. обнаружены артефакты, позволяющие не только доказать факт землетрясения, но и установить его разрушительную силу и направление сейсмического удара (т.е. и местоположение очага) [8, с. 34-35].
-
5. Перестройка оборонительных стен юго-восточного участка обороны в середине XI в. – следствие их разрушения в результате землетрясения [8, с. 36-37].
-
6. Обнаруженные О.И. Домбровским разрушения на т.н. «театральном участке» -свидетельство землетрясения XI в. [8, с. 37].
-
7. Землетрясение уничтожило керамические производственные комплексы,
-
8. Уничтожение раннесредневекового поселка на участке 32 херсонесской хоры (западный берег Камышовой бухты) связано с землетрясением в XI в. [8, с. 39-40].
-
9. Самый восточный памятник, на котором отмечены следы разрушений от землетрясения XI в. – крепость Мангупа. Поэтому, очаг землетрясения находился к юго-западу от Херсонеса – в «севастопольской очаговой области», так называемой «сейсмозоне 1» [8, с. 40-41].
-
10. Разрушительное воздействие землетрясения на Херсонес составило 9 баллов по шкале MSK-64.
располагавшиеся в Северном районе городища [8, с. 38].
Рассмотрим аргументацию А.А. Никонова по каждому из вышеперечисленных тезисов.
Письменные свидетельства о землетрясении.
В статье автор приводит текст латинского перевода сообщения Скилицы и Кедрина о землетрясении 1041 г.; русский «перевод» дает по весьма сомнительной компиляции 1794 года издания под названием «Деяний церковных и гражданских от Рождества Христова до половины пятагонадесять столетия, собранных Георгием Кедриным и другими» [8, с. 32; 17]; греческий оригинал не приводит вовсе. Латинский перевод публикуется не по классическим публикациям Скилицы и Кедрина ([66; 65]), а со ссылкой на историко-сейсмологическое сочинение М. Бонито «Terra Tremante» [64]. В связи с этим, латинские переводы текстов источников приведены с искажениями, фраза Скилицы дана без ссылки на страницу публикации, а ссылка на Кедрина – с указанием неправильной страницы (Р. 742 вместо Р. 532). На основании вторично использованной источниковой базы автор выдвигает гипотезу, что Скилица и Кедрин, упомянувшие под 10 июня 1041 года некое землетрясение без указания на его локализацию и разрушительную силу, на самом деле сообщили о сейсмическом событии, произошедшем в Крыму и разрушившем византийский Херсон. Ранее это землетрясение предположительно локализовали в регионе Мраморного моря, с чем А.А. Никонов не соглашается. Данная гипотеза представляется очень смелой и спорной. Поэтому, рассмотрим ее детально.
Текст этого сообщения (в пересказе Георгия Кедрина) выглядит следующим образом: « Touvtw/ tw/~ e{tei , ejpinemhjsei q∆ , ∆Ionivon iv , peri; w{ran th{" hJme;ra" cb∆ gevgone seismov" (Hoc ipso anno, die Iunii 10, hora diei 12, terrae motus fuit)» [66, р. 532]. На русский язык это переводится следующим образом: «В этом самом году (1041 – В.Х.) 10 июня в 12 часов дня было землетрясение» (перевод С.И. Кургановой).
Ранее это землетрясение уверенно относили к Константинополю [8, с. 31]. Это достаточно логично, т.к. указание на время с точностью до часа предполагает хорошую информированность автора. Поэтому, создатели сейсмических каталогов предполагали, что землетрясение произошло там, где находился наблюдатель (Скилица родился «вскоре после 1040 г.» [11, с. 139]), либо источник его информации (к сожалению, источниковая база Скилицы нам неизвестна). Это тем более важно подчеркнуть, что в сообщении не содержится указаний на разрушительный характер землетрясения, и оно не упоминается другими историками (в частности, современником событий Михаилом Пселлом (1018-ок.1078)), описывавшим те же события, что и Скилица в приводимом отрывке [27, с. 48].
Поскольку труды Скилицы и Кедрина на русском языке не изданы, в Приложении 1 к настоящей статье приводится полный перевод фрагмента «Обозрения историй», повествующего о событиях 1041 г.1 Сообщение о землетрясении вставлено Скилицей в рассказ о восстании Петра Деляна в Болгарии и его подавлении Михаилом IV в 1041 г. между известием об успешном снятии византийцами болгарской осады Фессалоники при помощи и заступничестве св. Димитрия Солунского и информацией о начавшемся раздоре между вождями повстанцев (см. Приложение 1). То есть, сообщение о землетрясении (к тому же неразрушительном) это не «чужеродная вставка внутри обширного текста о военнополитических событиях на Балканах», как полагает А.А. Никонов [8, с. 32]. Оно подчеркивает чудесный, «упромышленный» характер происходящего: победы ромеев, находившихся в численном меньшинстве, над варварами. Можно согласиться с А.А. Никоновым в том, что землетрясение могло произойти не в Константинополе (т.е. месте нахождения хрониста). Оно могло случиться западнее, в районе боевых действий – у Фессалоники, Острόва, Мосинополя или Прилепа, т.е. городов, упоминаемых в связи с восстанием Деляна.
Однако А.А. Никонов считает, что сведения о землетрясении вовсе не имеют контекста, что они «вставлены для полноты отражения событий в империи» [8, с. 32]. На этом основании исследователь не усматривает «противопоказаний к предположительному сопоставлению сведений И. Скилицы и Г. Кедрина о землетрясении 10.VI. 1041 г. со сведениями о разрушительном землетрясении первой половины XI в. в Херсонесе» [8, с. 32]. Более того, по информации И.А. Завадской, А.А. Никонов предлагает внести это землетрясение в обновленный каталог землетрясений Крыма [21, с. 12].
Исследователь считает, что землетрясение силой до 9 баллов, разрушившее, по его мнению, Херсон [8], ощущалось в виде слабых толчков в Константинополе, и именно поэтому попало в хронику Скилицы. Доказывая возможность этого, автор приводит в пример разрушительное землетрясение 17 августа 1999 г. с эпицентром в районе г. Измит (Никомедия), которое якобы ощущалось в Крыму. Однако данный аргумент служит доводом не за, а против гипотезы А.А. Никонова, т.к., по данным Геофизической службы РАН, это землетрясение ощущалось на полуострове силой лишь в 2-3 балла [26], т.е., по определению шкалы MSK-64, «немногими людьми, находящимися внутри помещений… Колебания схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим легким грузовиком» [52]. В подверженном постоянному сейсмическому воздействию Константинополе (а равно и других городах Южных Балкан) на такое сотрясение никто бы не обратил внимания, и уж тем более не стал вписывать в историческое сочинение «для полноты отображения событий в империи».
Следует подчеркнуть также, что землетрясение 17.08.1999 г. было десятибалльным, с магнитудой 7,8, а магнитуда самого мощного достоверно известного землетрясения с очагом в Крымско-черноморском сейсмическом регионе 11.09.1927 г. составляла 6,8 т.е. была примерно в 30 раз меньшей. Кроме того, оба землетрясения были мелкофокусными, и разрушительные колебания распространялись на незначительные расстояния [42, с. 45 и сл; 31; 32, с. 74]. Более того, сам А.А. Никонов в Заключении анализируемой статьи отмечает: «по аналогии с 9балльными землетрясениями последних столетий (например, 1927 г. в Крыму, 1939 и 1999 гг. в северной Турции), уже ранее намечен и здесь подтверждается вывод о том, что сильные землетрясения в горах Южного Тавра (в современной Турции) и у берегов Крыма никогда не оказывались (и по физическим законам не могут оказываться) причиной не только разрушений, но даже повреждений построек на противоположном берегу Черного моря» [7, с. 43].
Таким образом, гипотеза о том, что сообщение Скилицы и Кедрина о землетрясении 10 июня 1041 г. относится к Крыму и Херсону, и именно с ним нужно связывать разрушение города, лишена оснований.
Сведения «надписи Льва Алиата».
Ссылаясь на мнение А.Л. Бертье-Делагарда, А.Л. Якобсона и И.А. Антоновой, А.А. Никонов утверждает, что «ворота претория» сооружены в 16-й куртине оборонительной стены – той, в которой находятся античные ворота и средневековая калитка над ними [8, с. 33]. Это – неверное предположение, т.к. 16 куртина не примыкает к Цитадели и, соответственно, фемному преторию Херсона. По мнению А.А. Никонова, сооружение ворот было вызвано необходимостью восстановления города после землетрясения 1041 г. Столь значительный временной разрыв между землетрясением и восстановлением оборонительных стен исследователя не удивляет: «Тот факт, что возобновление ворот началось (завершилось) через 17-18 лет (после 1041 г.), не должен удивлять, ибо после едва ли не тотального разрушения (sic! – В.Х.), оставшиеся в живых горожане раньше все силы употребляли на восстановление первоочередных объектов. До того, как это явствует из археологических исследований, из руин поднимали жилые здания, объекты первостепенной необходимости и базилики. К ремонту ворот крепости приступили только ввиду прямой угрозы нашествия половцев» [8, с. 33].
Трудно сказать, что может быть более «первостепенно необходимым» для пограничной крепости, чем оборонительные стены. Материалы каких археологических исследований имеет в виду А.А. Никонов, не ясно: ссылку он дает (без указания страниц) на старинный путеводитель по Херсонесу [55] и работу А.Л. Якобсона «Раннесредневековый Крым» 1964 г. издания, которой на самом деле не существует: в 1964 г. А.Л. Якобсоном была издана монография «Средневековый Крым» [60], специально херсонесской археологии не посвященная, в отличие от других трудов исследователя [56; 58; 59].
На самом деле, местоположение ворот претория, соединявшего его с Портовым районом, не является секретом. Вышеупомянутая надпись была обнаружена К.К. Косцюшко-Валюжиничем в 1895 году с внешней стороны юго-восточного участка оборонительной линии Херсонеса, неподалеку от пристани, возле башни XXI: «Впереди башни, с наружной стороны стены, найден большой кусок мраморного карниза грубой отделки, на нижней ровной стороне которого вырезана… греческая семистрочная надпись времен Исаака Комнина» [35, с. 88] . Надпись гласит: «Сооружены железные ворота претория, возобновлены и прочие (ворота) города при Исаакие Комнине, великом царе и самодержце Римском и Екатерине, благочестивейшей Августе Львом Алиатом, патрикием и стратигом Херсона и Сугдеи, месяца апреля, индикта 12, лета 6567» [23, с. 16-17]. В науке существует консенсус о том, что преторий, по поводу сооружения ворот которого составлена надпись, находился на территории так называемой «Цитадели» между 18, 19, 20 и 21-й куртинами оборонительной стены. Поблизости от этого места, на расстоянии примерно 100 м. по прямой, и была обнаружена надпись [59, с. 102; 48, с. 108-113]. Соответственно, местоположение ворот, скорее всего – между башнями XIX и ХХ1, а «другие ворота города», действительно возобновленные в это время, это – морские ворота между башнями XXVI и XXVII (см. рис. 1). Они были перестроены от фундамента в середине – второй половине XI в. вместе с прилегающими к ним куртинами 38 и 39 [3, л. 38-39].
Археологическая ситуация близ 19-й куртины.
А.А. Никонов полагает, что следы землетрясения, датируемого исследователем первой половиной XI в., имеются также на 19-й куртине, примыкающей к Башне XVII с северо-востока и прилегающем к ней участке Цитадели [8, с. 33 и сл.]. При этом автор ссылается на результаты раскопок 1926 г., проводившихся К.Э. Гриневичем и подробно изданных им годом позже [16]. А.А. Никонов постулирует следующее (важные тезисы выделены мною жирным шрифтом): «… фиксировались повреждения в третьем ярусе кладки 19 куртины и примыкавших к ней с внешней стороны строений поздневизантийского времени . В первом сверху слое в квадратах 1 и 2 (т. е. только у внешней части стены ) вскрыт завал, заполнивший внутренность строений крупными камнями в их западных частях и «сплошной массой» камней средней величины со следами цемянки в восточных. Завал определен как свалившийся с верхнего, 3-го яруса куртины. Целый ряд признаков заставляет признать его направленным развалом с оборонительной стены во внутреннюю часть города . Развал от куртины 19 распространился не менее, чем на 4-5 м. к востоку или восток-северо-востоку, т. е. наискосок к простиранию стены; в том же направлении уменьшается толщина завала от 1.65 до 1.2 м. Между тем, в южных румбах, т. е. с наружной стороны стены, первый сверху слой имеет толщину всего 0.45 м и не несет признаков завала. Следовательно, речь должна идти не о каком-то гравитационном обваливании стены, но о её опрокидывании под действием мощного горизонтального, косого относительно простирания стены импульса. Показательны и нарушения примыкающих к стене с внутренней стороны строений 5 и 6 периодов, датируемых по монетам X—XI вв.» [8, с. 15].
Сразу бросается в глаза, что автор путается, с какой стороны XIX куртины проводились раскопки: с внешней (загородной) или с внутренней (городской). Ясно, что с внешней стороны (т.е. в периболе) никаких строений быть не могло.2
Вот, что сообщает по этому поводу отчет К.Э. Гриневича о раскопках.
-
1. Местоположение участка раскопок : «…участок, размером 10х22 м., примыкает с юго-запада к 19 куртине оборонительной стены Херсонеса, непосредственно примыкая к «Базилике Леонтия что на забрале»» [16, с. 262], то есть, находится внутри города, а не по обе стороны 19 куртины, как полагает А.А. Никонов.
-
2. В каком направлении и когда рухнула верхняя часть 19-й куртины : «Первый (сверху) слой, толщиной от 0,5 до 1 м. (толщина уменьшалась в сторону бухты) (т.е. к востоку – В.Х.), характеризуется многочисленными, откатившимися от облицовки оборонительной стены, блоками камня, большим числом мелкого щебня, позднейшими черепками. Состав засыпи I слоя позволяет датировать его эпохой, наступившей после гибели города (выделено мной – В.Х.)»3 [16, с. 264]. Таким образом, первый слой, упоминаемый А.А. Никоновым, не имеет отношения к катастрофе X-XI вв., и даже если каменный развал в I слое – сейсмического
-
3. Какой слой относится к изучаемому в настоящей монографии времени : по мнению К.Э. Гриневича, это – II слой: «По направлению к бухте толщина II слоя… уменьшается. Судя по находкам на подошве этого слоя монет византийских императоров Василия II, Романа (Романа II – В.Х.) и Константина (Константина VII – В.Х.), мы можем датировать II слой эпохой X-XI вв.» [16, с. 264]. Правильность этого вывода подтверждается прилагаемой к отчету описью монет, составленной Л.Н. Беловой-Кудь [16, с. 289-293]. Монеты II слоя не выходят за пределы Х в.: самые поздние монеты слоя (их найдено две) – Василия II с монограммами «Василий – деспот» [16, с. 293, № 86-87]. К этому слою К.Э. Гриневич относит 5-й строительный период, когда на изучаемом участке находились хозяйственные помещения с жерновами4. Здание погибло в катастрофе, датируемой по монетам II слоя не ранее конца Х в.: «После какой-то большой катастрофы, о которой красноречиво свидетельствуют следы горения и прослойки угля, золы и пепла, все здание оказалось под землей, и рядом (чтобы предотвратить расползание этой земляной насыпи – В.Х.) была построена опорная стена ЛДГ, имеющая лицевую кладку на глине только в сторону северо-востока (т.е. с открытой стороны в направлении бухты – В.Х.). Важно отметить, что стена в силу большой тяжести земляной насыпи, несколько выгнулась наружу (т.е. в сторону от 19-й куртины – В.Х.), что хорошо видно на панорамном снимке (см. рис. 2. - В.Х.). В эпоху последнего 6-го периода (т.е. после катастрофы рубежа X-XI вв. – В.Х.) все здание… было в земле и на месте вышеописанных помещений… была устроена искусственная паперть-помост, сооруженная через большой промежуток времени после гибели всего здания» [16, с. 267].
происхождения, землетрясение, разрушившее стену, случилось значительно позднее XI в., хотя нельзя исключать, что стена была обрушена внутрь города таранами осаждающих.
Таким образом, хронология событий на этом участке следующая: хозяйственные помещения с жерновами погибли в пожаре на рубеже X-XI вв., и на их месте постепенно образовалась груда земли, грозившая «наплыть» на лежащие вниз по склону строения. Чтобы предотвратить это, в последующее время была сооружена подпорная стена, отделившая их от руин. Затем (или сразу же после возведения подпорной стены) насыпь была выровнена и превращена в площадку (помост или паперть). Под тяжестью земли подпорная стена выгнулась в сторону от 19-й куртины, т.е. к северо-востоку – в направлении понижения рельефа местности, что вполне объясняется гравитационными причинами.
А.А. Никонов трактует вышеприведенную информацию искаженно, «корректируя» ее, чтобы она выглядела как можно более «сейсмической»: «Параллельная 19 куртине опорная стена 6 периода северо-западного простирания длиной 12 м. и толщиной 0.5-0.6 м., ограничивавшая строения (sic! – В.Х.), оказалась выгнутой наружу, к северо-востоку и наклонённой в том же направлении, по К.Э. Гриневичу после «какой-то большой катастрофы» здание (X—XI вв.) оказалось под землей (С. 267)» [8, с. 33].
Как видно из вышеприведенных цитат первоисточника, стена 6 периода появилась после разрушения хозяйственной постройки, и ограничивала она не «строения», а земляную насыпь на месте их разрушения, т.е. сначала «здание оказалось под землей», а уж потом появилась подпорная стена. А.А. Никонов, таким образом, соединяет два события в одно.
Следующая цитата: «Стены 5 периода северо-западного и северо-восточного простирания также обнаружили наклон к востоку или северо-востоку: «под влиянием неравномерного давления тяжёлых камней засыпи или каких-то иных причин выгнулись внутрь помещения византийского дома, так что могут разрушиться в ближайшее время» [Материалы..., 1927. С. 265 – так А.А. Никонов оформляет ссылку на отчет К.Э. Гриневича – В.Х.]. В данном случае важно, что верхние части стен 5 и 6 периодов под одним и тем же завалом наклонены наискосок к их простиранию и в том же направлении, как и крупный развал верхней части 19 куртины. Такое согласование направлений, а также хорошо известные случаи подобных деформаций стен при современных землетрясениях позволяет определенно идентифицировать причину» [8, с. 33].
На самом деле, на С. 265 отчета К.Э. Гриневича говорится совершенно о другом – о первом и втором строительных периодах раскапываемого участка, относящихся к античной эпохе. Приводимая А.А. Никоновым цитата взята из дневника раскопок (С. 279). Поскольку она приведена не полностью, повторю ее еще раз, дословно цитируя дневник: «Необходимо отметить, что стена ЛК и западная стена ИК под влиянием неравномерного давления тяжелых камней засыпи или каких иных причин выгнулись внутрь помещения византийского дома, так что могут разрушиться в ближайшее время» [16, с. 279]. Действительно две стоящие под прямым углом друг к другу стены 5 периода, т.е. относящиеся к зданию, разрушенному на рубеже X-XI вв., вогнуты в том же направлении, в котором выгнута подпорная стена 6 периода (см. рис. 2). Если согласиться с А.А. Никоновым, что эти деформации вызваны землетрясением, то, учитывая позднее время возведения подпорной стены, придется признать, что это – следы воздействия сейсмического события, произошедшего уже после разрушения «византийского дома» на рубеже X-XI вв. (возможно, во время землетрясения XV в. [22, с. 49-59]). Как ясно видно из приложенного к отчету К.Э. Гриневича чертежа Н.М. Янышева (рис. 2), деформирующее воздействие происходило с южного направления. Развал камней 19-й куртины произошел в том же направлении, т.е., возможно, 19-я куртина рухнула на руины заброшенной Цитадели не в XVIII-XIX, а в XV в., хотя относительно событий рубежа X-XI вв. это наших выводов не меняет.
А.А. Никонов полагает, что на данном участке раскопок после катастрофы 1041 г. были совершены санитарные захоронения: «Дополнительно следует принять во внимание и такой показательный, отмеченный «секретарем раскопок» Г.Д. Беловым, но оставшийся без объяснения признак, как обнаружение на том же участке и в тех же слоях нескольких «могильных ям, залитых [! А.Н.] известью». Речь идет, несомненно, не о могилах на кладбище, но о коллективных захоронениях после разрушений («большой катастрофы»), потребовавших санитарной обработки. Массовые захоронения начавших разлагаться трупов вблизи гибели людей – это тоже, как хорошо известно, даже по примерам новейшего времени, типичное, необходимое ввиду угрозы эпидемий, действие оставшихся в живых жителей разрушенных городов» [8, с. 34]. Характерно, что ссылки на конкретные страницы отчета К.Э. Гриневича и «секретаря раскопок» Г.Д. Белова5, где якобы находятся указания на средневековые «санитарные захоронения», А.А. Никонов не делает. Поэтому, ниже привожу все без исключения упоминания о захоронениях на участке близ 19-й куртины в отчете К.Э. Гриневича о раскопках Цитадели в 1926 г.
«…в I слое было встречено большое число карантинных, залитых известью, погребений начала и середины XIX века. Состав засыпи I слоя позволяет датировать его эпохой, наступившей после гибели города» [16, с. 264]. «Попадавшиеся во время раскопки этого 1-го византийского слоя, явившегося в результате культурной жизни XVI-XX веков, древнегреческие и римские предметы представляют собою результат перекопки земли для могильных ям в середине XIX века, когда вследствие этой перекопки предметы из древнейших слоев оказались в верхних слоях городища» [16, с. 275]6. «В этот же день 17 июня было приступлено к раскопке 1-го слоя (византийского) квадрата № III. Раскопки начались с северо-восточной границы квадрата, были раскопаны до конца еще ранее обнаруженные в пограничном I квадрате погребения в извести. Вынуто в северном углу III квадрата 4 костяка, в погребении, находящемся посреди северо-восточной границы квадрата – 2 костяка» [16, с. 276]. «В IV квадрате обнаружено 5 погребений (в одном 4 костяка, в другом - 1), остальные остались пока невостребованными. Все залиты известью» [16, с. 276]. «Найдено в 1 квадрате 4 новейших карантинных погребения: в одном – 4, в другом – 6, в третьем – 1, в четвертом – 1 костяк» [16, с. 277]. «Найдено 3 новейших погребения по 4 костяка» [16, с. 278]. «5 июля понедельник… Встретилось два новейших погребения. Сверху погребений на костяке было найдено 4 осколка чугунных ядер типа эпохи севастопольской обороны» [16, с. 279].
Как видно из приведенных выше цитат, могильные ямы , залитые известью, не остались без объяснения авторов отчета, тем более что наличие в херсонесской цитадели севастопольского карантинного кладбища7 для археологов и историков никогда не было тайной (см. например: [51, с. 514]).
Таким образом, рассмотрев ту же источниковую базу, что и А.А. Никонов, констатирую:
-
1. Следы катастрофы рубежа X-XI вв. в Цитадели имеются. Однако, это – не следы разрушения 19-й куртины, а разрушения и пожара хозяйственной постройки.
-
2. Датировка разрушения дома (по монетному материалу и белоглиняной поливной керамике) не выходит за пределы конца X – начала XI вв.
-
3. Выявленные А.А. Никоновым специфические признаки возможного сейсмического воздействия на изучаемый участок относятся не к X-XI вв., а к более позднему времени.
-
4. «Захоронения в извести», которые А.А. Никонов датирует XI в., относятся к XVIII-XIX вв. и совершались на карантинном кладбище Севастополя, а не средневекового Херсона.
Археологическая ситуация на руинах Базилики 1935 года
Поскольку этот памятник находится в самом сейсмоопасном месте Херсонеса – в приморской низине, наполненной четырехметровой толщей насыпного грунта [9, с. 90], он привлекает повышенное внимание сторонников теории о сейсмических причинах разрушения Херсона. А.А. Никонов рисует апокалиптическую картину гибели храма: «…сооружение не просто разрушилось, но было свергнуто, опрокинуто с полным обрушением и дроблением всех элементов наземной части, в том числе массивной колоннады из шести крупных колонн вдоль каждой из сторон среднего нефа. Завал состоял из битых камней, кирпичей, черепицы, мраморных фрагментов, извести, мусора. Коллапс столь прочного сооружения невозможно приписать военным действиям и вообще силам человеческим» [8, с. 35].
Действительно, строительная история участка, на котором находилась базилика, необычайно насыщенна, даже для Херсонеса. Здесь имеются следы построек эллинистического и римского времени, а со времен поздней античности (не позднее IV в.) это место начинает использоваться в религиозных целях. Для этого возводится здание уникальной для Херсонеса того времени фахверковой конструкции с заполнением из сырцового кирпича на бутовом фундаменте, скрепленном глиняным раствором [19, с. 140, 144]. Г.Д. Белов, первым нашедший эту позднеантичную постройку, принял ее за мавзолей и приписал ему позднеантичные мраморные плиты с барельефами, которые, как показали его раскопки, впоследствии были использованы в качестве элементов пола центрального нефа базилики VI в. [9, с. 38, 66]. В настоящее время считается, что фахверковая постройка IV в. была позднеантичной синагогой: в ней найдены фрагменты фресок с надписями на иврите, упоминанием еврейских имен (например, Еноха), Иерусалима, а также каменная плита с изображением меноры. Соответственно, плиты с языческими барельефами доставлены на данный участок при строительстве базилики VI в., а не ранее [19, с. 140].
Ни у Г.Д. Белова, первым раскапывавшего данный участок в 1935 г., ни у других исследователей, не было сомнений, что плиты с барельефами уложены в пол именно базилики VI в. Это важно подчеркнуть, т.к. А.А. Никонов, не приводя каких-либо доказательств, утверждает, что плиты не только изначально были изготовлены для установки в этом месте (здесь он следует первоначальной гипотезе Г.Д. Белова), но стали плитами пола не второй базилики (VI в.), а первой – храма V в., в который была перестроена предполагаемая синагога [8, с. 30-31].
Появление в некоторых из них трещин и расколов, проходящих через всю плиту, исследователь считает следствием землетрясения, разрушившего базилику V в. «в промежутке между серединой V в. и VI в.» [8, с. 31]. Он полагает, что они указывают на «разрушительную силу землетрясения 9 баллов или более» [8, с. 31]. А.А. Никонов считает, что причина раскола плит, выдвинутая Г.Д. Беловым – вследствие давления на них конструкций позднего храма (XIIXIII вв.) – «не выдерживает никакой критики» [8, с. 30].
Все это вынуждает нас рассмотреть строительную историю данного участка подробно.
Действительно, во второй половине V в.8 первоначальное фахверковое здание (предполагаемая синагога) перестраивается в христианский храм базиликальных очертаний («базилика I-35 г.» по терминологии Е.Н. Жеребцова): с северо-востока к ней пристраивается пятигранная снаружи и полукруглая внутри апсида из бута на известковом растворе с примесью морского песка [9, с. 80] (см. рис. 4).
При этом пол основного объема базилики остался таким же – цемянковым, и мраморными плитами его не покрывали [9, с. 80-89; 19, с. 140-143] (см. рис. 3). Возводится мраморная колоннада с феодосианскими капителями. Ее местоположение внутри или снаружи здания пока не установлено [19, с. 147].
В VI в. эта постройка оказывается разрушенной или разобранной и на ее месте возводится новый монументальный храм – базилика II-35 г. При этом строительные конструкции предшествующих периодов никак не используются. Здание строится в стандартной для VI в. технике «opus mixtum» из чередующихся рядов обработанного камня и плинфы9. Толщина наружных стен – 90 см. Их фундаменты толщиной 1 м. – бутовые на известковом растворе. Они глубоко (на 1,6 м) впущены в землю и «стоят на античной насыпи; южная и западная стены стоят на стенах эллинистического периода» [9, с. 89]. Но до скалы они не достают: «Северная стена не достигает до скалы 1,50 м… Фундамент апсиды находится на высоте 0,90 м. от скалы» [9, с. 89].
Внутренние стены базилики (нартекс, опоры под колонны) тоньше внешних – 70 см. [9, с. 89]. Их фундаменты также «висят» в толще рыхлой насыпи: «например, стена между нартексом и средним нефом стоит на высоте 1,2 м. от скалы» [9, с. 90-91].
Видимо, осознавая потенциальную сейсмическую опасность данного участка, строители с особой тщательностью подошли к укреплению прочности апсиды: «При постройке фундамента апсиды, стоящей на насыпи, употреблен интересный и редкий в строительной технике Херсонеса прием: в насыпь были вбиты деревянные колья, длиной 0,55-0,6 м… Колья имеют четырехгранную форму, от них в земле сохранились пустоты; в одном случае кусочки кола пристали к камням нижнего ряда фундамента и сохранились. Колья имеются под всей апсидой базилики; по-видимому, кольями был обозначен на земле полукруг, по которому строилась апсида» [9, с. 89-90]. Более того, стены апсиды были дополнительно соединены поперечной стеной-фундаментом [9, с. 90]. Строители, видимо, учитывали тяжесть будущей конхи и стремились сделать максимально прочным главный сакральный элемент здания – его алтарь с престолом (см. рис. 4).
Боковые нефы базилики II-35 г. (и это стандартно для херсонесских базилик VI-VII вв.) выложены мозаиками [9, с. 101 и сл.], центральный – мраморными плитами: «В среднем нефе базилики пол был вымощен большими мраморными плитами, in situ сохранились 20 плит… мраморные плиты лежали непосредственно на насыпи 3-го слоя, на высоте 0,70 м. от цементного пола, углы плит были укреплены на растворе того же состава, что и в кладке стен базилики» [9, с. 99-100] (см. рис. 3). Именно этому полу принадлежали античные плиты с барельефами, в том числе и расколотые, по мнению А.А. Никонова, в V в. в результате землетрясения. Например, плита «с именем Фемиста лежала во втором ряду плит пола: на ней стоял южный угол часовни, который и раздавил плиту на 4 части» [9, с. 38, рис. 23]. Знаменитая плита с изображением масок Диониса и его свиты также находилась в полу среднего нефа базилики II-35 г. «На ней стояла большая мраморная база; вследствие тяжести стоявшей на ней стены часовни, плита оказалась раздавленной на 2 части» [9, с. 55].
Плиты, сохранившиеся in situ, как правило, не расколоты (это можно увидеть и в наши дни), хотя если согласиться с А.А. Никоновым в том, что раскалывал их горизонтальный удар землетрясения, на все плиты действовали одинаковые силы. Но расколотыми оказались только те, на которые непосредственно давили стены позднего храма базилики III-35 г., южный угол которой не имел фундамента, а опирался непосредственно на мраморный пол базилики II-35 г., а под ним находилась рыхлая насыпь (см. рис. 6) [9, с. 129].
Плиты, использованные впоследствии в качестве обкладки или крышек могил поздневизантийского времени, как правило, не расколоты наискось или лучеобразно: они разделены на части по вертикали, в соответствии с размерами могил и, видимо, в связи с их постройкой (см. [9, рис. 28-30, 33, 34, 74, 76]. Несколько расколотых плит обнаружено в толще 70-см засыпи под полом базилики. Однако они находятся значительно выше цемянкового пола предшествующего сооружения и никак с ним не связаны. Плиты, видимо, раскололись при обработке для укладки в пол, и были засыпаны строительным мусором, чтобы не тратить усилий на их извлечение и утилизацию [9, с. 41-42].
Таким образом, предположение А.А. Никонова о том, что плиты пола центрального нефа «Базилики 1935 г.» расколоты в результате землетрясения V в., не имеет под собой фактической основы.
А.А. Никонов предполагает также, что в руинах базилики II-35 г. лежат ее колонны и капители в том положении и направлении, в котором они упали при разрушении здания на рубеже X-XI вв. [8, с. 35]. Однако, и это утверждение исследователя неверно. Как показали раскопки Г.Д. Белова, почти все колонны базилики II-35 г. были использованы при возведении стен базилики III-35 г. (см. рис. 6)10. Те стволы, базы и капители колонн, которые не были использованы, многократно перемещались: при возведении базилики III-35 г., при рытье могил вокруг нее, при выборке строительного камня. Поэтому, вычислять направление сейсмического удара (с юго-запада на северо-восток) по фотографиям Г.Д. Белова, фиксирующим ситуацию в момент раскопок, как это делает А.А. Никонов [8, с. 35], просто невозможно. Нельзя доказать, что какая-то строительная деталь базилики II-35 г. не была перемещена после ее обрушения (см. рис. 6-7).
Объективные данные о базилике II-35 г. таковы.
-
1. Это было тяжелое и громоздкое (вероятно, двухэтажное) здание, построенное на толстом слое рыхлого насыпного грунта. Его глубокие фундаменты не доставали до скалы. Учитывая, что базилика была построена в балке, рыхлый грунт ее основания, видимо, переувлажнялся грунтовыми водами11. Все это снижало прочность конструкции здания. Раннесредневековые строители это осознавали и, как могли, стремились его укрепить: метровой толщиной фундаментов внешних стен; поперечной стенкой, скрепившей апсиду; деревянными сваями под ней и антисейсмической кладкой «opus mixtum».
-
2. Но, несмотря на все эти усилия, через 4 столетия после постройки12, базилика была полностью разрушена и восстановлению не подлежала. При этом, она не горела: в слое ее разрушения не обнаружено следов пожара, а найденные артефакты не несут следов воздействия высоких температур: «В нижней части слоя на подошве лежали во многих местах груды кирпичей, черепиц, кусков раствора и извести… в мусорной свалке встречались в большом количестве обломки поливной посуды, из белой и розовой глины, с рельефным орнаментом... В большом количестве находились в насыпи куски плоского оконного стекла и стеклянной посуды… Встречались в насыпи черепки простой посуды, железные гвозди и нож, большое количество костей животных – овец, козьи рога, кости крупного рогатого скота» [9, с. 131-132].
-
3. Время гибели базилики лучше всего датирует монетный «клад», найденный в одной из ее южных пристроек. Он состоял из 68 монет, самые поздние из которых – монеты с монограммами «Василий-деспот» (их в «кладе» 19 единиц) [14, с. 155-156]. В слое разрушения обнаружена одна монета с монограммой «ро» (под мозаикой южного нефа). И.А. Завадская считает ее примесью сверху, возможной, потому, что в мозаике имеются многочисленные лакуны, образовавшиеся при устройстве могил ниже пола базилики II-35 г., на ее руинах [20, с. 102].
-
4. После гибели базилики II-35 г. это место долгое время использовалось как свалка мусора: ее толщина в итоге достигла 40 см. Под полами разрушенного храма совершались погребения по обряду трупоположения [9, с. 113-130].
Перестройка оборонительных стен юго-восточного участка обороны .13
За время изучения городища к исследованию припортовых оборонительных сооружений обращались дважды: К.К. Косцюшко-Валюжинич в 1892-1905 гг. и И.А. Антонова (в составе Объединенной экспедиции) в 1964-1966 гг. Материалы раскопок К.К. Косцюшко-Валюжинича в данном районе доступны в виде кратких заметок в Отчетах императорской археологической комиссии [33; 34; 36; 37; 38]. И.А. Антоновой, по материалам работы ее отряда в 1964-1966 г., составлены подробные отчеты [1; 2; 3]. Основные итоги исследований были опубликованы в обзорной статье [4]. Однако значительная часть материала, отраженного в отчетах, осталась неизданной.
Припортовый участок оборонительной линии расположен на пологом склоне холма, спускающегося к Карантинной бухте [1, л. 219-220; 4, с. 102-103]. В соответствии с правилами фортификации, оборонительные стены здесь должны были находиться как можно ближе к воде, чтобы отсутствовал плацдарм для возможной высадки неприятеля [4, с. 110; 115]. В связи с тем, что в результате т.н. Корсунской регрессии уровень моря на этом участке в средневековую эпоху постепенно понижался, херсонским фортификаторам приходилось возводить новые участки оборонительной линии, максимально придвигая их к урезу воды Карантинной бухты [6, с. 2223].14
В первой половине X в., в связи с обветшанием раннесредневековых стен, построенных в VVI вв., были выстроены новая большая башня XXII (IV строительный период) и 25 куртина (V строительный период). На 26 куртине произведен ремонт. Во время катастрофы, постигшей город на рубеже X-XI вв., 25 куртина рухнула, а примыкающая к ней западная стена башни XXII треснула. В связи с тем, что город оказался без крепостной ограды на одном из наиболее уязвимых участков, была в спешном порядке выстроена новая оборонительная линия (куртины 37-39, башни XXV-XXVII и, видимо, XX 1 – см. рис. 1) (VI строительный период). Однако новые стены простояли недолго, возможно, лишь до середины XI в. и, в свою очередь, рухнули [1; 2; 3]. Причиной обрушения может быть низкое качество строительства и слабость грунта, на который опирались стены. Но, в первую очередь, вероятно, разрушительное действие оказала морская вода, т.к. новая оборонительная линия была выстроена на уровне моря, вплотную к урезу воды.
Можно также осторожно предположить, что разрушение стены вызвано сейсмическими причинами. Именно так полагала И.А. Антонова. Впервые эта гипотеза была высказана ею еще в 1966 г. [3, л. 39]. Затем исследовательница развила его в 1999 г. [7, с. 9]. В этот период И.А. Антонова связала с землетрясением и трещину в башне XXII, и загадочное захоронение, обнаруженное ею в засыпи башни XXV: «В башне XXV найден костяк женщины с младенцем, заваленный очень большими камнями обрушившейся башни» [Там же, с. 9] (см. рис. 8). То есть, И.А. Антонова (и вслед за ней А.А. Никонов) полагали, что землетрясением вызвано разрушение стен VI строительного периода. Тогда же, при обрушении башни, погибли и женщина с ребенком [8, с. 37].
Однако вышеприведенный тезис не подтверждается материалами отчета исследовательницы об обстоятельствах данной находки. Захоронение совершено в мягком насыпном грунте под полом башни XXV VII строительного периода (середины XI в.), и в составе этой засыпи были найдены амфоры поздних типов, бытовавших в Херсоне в XII-XIII вв., красноглиняная поливная керамика, остатки черепицы последнего периода жизни города
[1, л. 275-277]. В засыпи погребения обнаружены 7 монет IX-X вв. (от Василия I до Василия II с монограммами «Василий-деспот»), 3 монеты с монограммой «кB ω » и 12 монет с монограммой X [15, л. 409-411, № 457-480]. Таким образом, ясно, что погребение не имеет отношения к гибели башни XXV VI строительного периода, а было совершено во время функционирования башни заключительного, VII периода, или даже после ее разрушения. О наличии больших камней, якобы заваливших погребенных, в отчете не говорится. Наоборот, подчеркивается, что северо-западный угол башни, где было совершено погребение, «…не был занят каменной кладкой. Мягкая насыпная земля шла здесь на глубину 60 см., вплоть до песка, который лежит на уровне моря…» [2, л. 275].
Погребение, судя по описанию И.А. Антоновой, приведенному в отчете, носит не катастрофический, а криминальный характер: «Костяк женщины и маленького ребенка лежали в неправильном положении, ноги резко подогнуты в коленях, позвоночник также изогнут, лежащий на левой стороне череп закинут назад. Погребение было как бы запихнуто в щель между двумя большими камнями, северной и западной стенами башни. Они и определили характер его положения. Сохранившийся анатомический порядок размещения костей указывает на то, что здесь было закопано тело, а не сброшены кости. Костяк ребенка лежал между камнем и скелетом женщины» [2, л. 275].
Связывать разрушение стен VI периода с катастрофой, постигшей Херсон на рубеже X-XI вв., видимо, нет оснований. Хотя нельзя исключать, что землетрясения слабой силы, возможно, афтершоки более раннего разрушительного толчка, способствовали тому, что наспех построенные стены VI периода относительно быстро пришли в негодность и, по крайней мере, на ряде участков, рухнули. Именно это привело к необходимости тщательного возведения на том же месте стен VII строительного периода, простоявших не только до конца истории города, но и до основания Севастополя: их линия прочерчена на плане руин Херсонеса, снятом не позднее 1819 г. [51, с. 490, рис. 129].15 Однако А.А. Никонов настаивает на прежней трактовке16.
Разрушения на «театральном» участке.
А.А. Никонов утверждает: «сейсмическая причина разрушения определяется и по другим, зафиксированным О. И. Домбровским [1986] признакам, таким как вывал двери внутрь наискосок к проёму, нахождение под каменным навалом смешанных костей 7 человек, обнаружение в кладовой «дома 1972» разбитых амфор и пифосов, нахождение под рухнувшей кровлей накрытого для трапезы стола. Все эти признаки говорят в пользу внезапности события, несовместимости его объяснения результатом, скажем, вражеского набега. Время упадка, перестроек, относимых, судя по керамике в строительном мусоре, к X в. (Домбровский, 1986), ныне есть основания датировать первой половиной XI в.» [8, с. 37].
Работа О.И. Домбровского, на которую ссылается выше А.А. Никонов, опубликована во втором томе фундаментальной «Археологии УССР». В использованном в рассуждениях А.А.
Никонова фрагменте О.И. Домбровский излагает результаты изучения верхнего слоя (т.е. слоя окончательного разрушения) жилых усадеб так называемого «театрального участка» (квартал LXXII). Поэтому, артефакты, которые А.А. Никонов отнес к первой половине XI в., на самом деле относятся к XIII в. или, по версии О.И. Домбровского, к XIV в. В подтверждение этого дословно привожу текст О.И. Домбровского, на который ссылается А.А. Никонов, (важные детали выделены мною жирным шрифтом).
«Если в северном помещении «дома священника» удалось лишь раскрыть интерьер, то в аналогичном помещении «дома 1972 г.» нами восстановлена картина произошедшего трагического события. Находки золотоордынских монет на вымостке переулка-тупика , наконечник татарской стрелы свидетельствуют о том, что связи Херсонеса с Золотой Ордой не всегда были мирными. Судя по размещению остатков деревянной утвари, можно прийти к выводу, что посреди помещения стоял стол со скамьями. В момент падения кровли на столе была накрыта трапеза: среди его обуглившихся остатков найдены четыре расколотые тарелки со скорлупой куриных яиц, куриные кости, четыре разбитых столовых кувшина, покрытые зеленой глазурью, и маленькие глубокие миски для питья с высокими краями и небольшим поддоном, крохотный сосуд, напоминающий детскую игрушку, мог быть солонкой. В углу за очагом, на котором стоял большой, прокопченный от частого употребления горшок, найден скелет кошки, забившейся туда с мышью в зубах. Дверь комнаты открывалась внутрь и была оставлена открытой, она упала наискосок от проема: удалось проследить ее очертания, кроме того, на месте остался железный замок. В переулке, возле порога, найдена маленькая золотая сережка, вероятно, потерянная в момент бегства одной из обитательниц дома» [18, с. 548].
«Ближе к городской стене и углу «храма 1958 г.» под хаотическим каменным завалом, найдены смешанные человеческие кости и черепа семи человек. Раскопки показали, что тела как бы были брошены друг на друга: то ли упали они так в рукопашной схватке, то ли их спешно – после битвы зарыли среди развалин . Описанное событие могло произойти в момент последнего, в конце XIV в. татарского нападения на Херсонес » [18, с. 548].
Уничтожение керамических производственных комплексов в Северном районе.
А.А. Никонов полагает, что в Северном районе Херсонеса до катастрофы XI в. работали гончарные печи, которые после катастрофы работать перестали, и в XII в. на их месте были построены дома [8, с. 38]. При этом автор ссылается на научно-популярную работу А.Л. Якобсона «Крым в средние века». Однако текст А.Л. Якобсона свидетельствует совершенно об ином: «В большом количестве производили в Херсоне в XII-XIII вв. и кровельные черепицы, нужда в которых была тогда очень большой: город, как говорилось, восстанавливался, запустевшие кварталы застраивались. В Херсоне раскопками открыты и две больше черепицеобжигательные печи XI в. Они расположены почти посередине северной прибрежной полосы города… Известно, что гончарные печи всегда устраивались на окраине города; следовательно, в XI в. здесь был край его. Но в дальнейшем расширявшаяся застройка вынудила перенести печи в другое место, а разрушенные остатки их были погребены под домом XII в.» [61, с. 92].
Упомянутые А.Л. Якобсоном печи находились в кварталах VIII и XIII и возникли именно после разрушения города для массового производства черепицы, необходимой для его восстановления [45, с. 76].17 Массовое производство черепицы в XI в. А.Л. Якобсон отметил и на других поселениях горного Крыма, в частности, на Эски-Кермене и Мангупе [62, с. 147]. А.И. Романчук полагает, что причиной этого стало восстановление крепостей и поселков ЮгоЗападной Таврики после землетрясения [46, с. 558].
Разрушения за пределами Херсонеса.
А.А. Никонов полагает, что разрушения сейсмического характера обнаружены на ближней хоре Херсонеса – на 32-м ее участке у Камышовой бухты [63], на руинах христианского храма на м. Виноградный (район Фиолента), и на Мангупе. Причем, исследователь полагает, что Мангуп – самый восточный памятник, затронутый разрушительным землетрясением XI в. [8, с. 39-41]. Рассмотрим эти гипотезы подробнее.
Средневековый поселок на берегу Камышовой бухты раскопан Т.Ю. Яшаевой в 1979-1982 гг. Он погиб единовременно в пожаре, который (по массовому керамическому материалу), датируется первой половиной X в. Однако, найденная в слое разрушения импортная амфора класса 42 по классификации А.И. Романчук, А.В. Сазанова и Л.В. Седиковой [43, с. 62, табл. 29. № 133] рубежа X-XI вв. отодвигает время разрушения к рубежу тысячелетий, а две монеты с монограммой «ро» – как минимум к середине – второй половине XI в. [63, с. 354-356]. Т.Ю. Яшаева осторожно предполагает, что амфора класса 42 и монеты «ро» являются примесью сверху. [63, с. 355-356]. Действительно, при таком спорном наборе материала говорить о точном времени разрушения поселка (а значит, и о его обстоятельствах) сложно. Гибель поселка в пожаре указывает, скорее, на военные причины его разрушения в результате поджога. Массовый материал свидетельствует в пользу гибели поселка во время похода хазарского полководца Песаха (30-40-е гг. Х в.) [29, с. 229]. Единственная (судя по тексту публикации Т.Ю. Яшаевой [63, с. 355]) амфора класса 42 «намекает» на возможное его увничтожение войсками князя Владимира в 987-998 гг. Наконец, указание на то, что «область Херсона» могут разорять печенеги, делал правивший в 945-959 гг. император Константин VII [53, л. 68-69]. Монеты с монограммой «ро», выпуск которых начался не ранее 1028 г. (времени воцарения Романа III Аргира), находятся на данном памятнике настолько вне остального археологического контекста, что следует признать верной точку зрения Т.Ю. Яшаевой: видимо, они являются примесью сверху (весьма, кстати, характерной для херсонесских памятников).
Учитывая, что большая часть керамики на памятнике датируется IX – первой половиной Х вв. и аналогична керамике из засыпи первой половины – середины Х в. цистерны № 5 квартала Хб херсонесского городища [47], разрушение и сожжение поселка на берегу Камышовой бухты, вероятнее всего, следует связывать с походом Песаха. Однако, А.А. Никонов, опираясь фактически только на 2 монеты XI-XIII вв., игнорируя остальной археологический контекст, датирует разрушение памятника серединой XI в.: «поскольку рядом у стены храма IX—XI вв. в слое каменного завала найдена монета 1028— 1034 (Романа III), то именно этот интервал следует признать нижним возрастным пределом рассматриваемого разрушения» [8, с. 40].
На приложенных к статье Т.Ю. Яшаевой двух фотографиях (см. рис. 9-10) А.А. Никонов усматривает целый комплекс сейсмических нарушений: «Помещение 4, несколько удлинённое (4x3 м) к ЮВ, с каменными стенами 1-метровой толщины (что предполагает наличие 2-го этажа) и сохранившейся высотой 0.6-1 м. сфотографировано после очистки внутреннего объёма [Яшаева, 1999, фото 9а] (см. рис. 9 – В.Х.). На фото отчетливо видна часть ЮВ стены у прохода во внутренний двор и остатки развала (отброса) каменных плит с неё к СЗ, т. е. внутрь помещения. Отброс произошел с высоты около 1 м на расстояние не менее 1.2 м, т. е. явно не в результате сползания под действием силы тяжести. Каменный очаг высотой не более 0.3 м посередине помещения также оказался разваленным с отбросом покрывавшей его плиты не менее чем на 0.5 м, но в противоположную сторону, т. е. к ЮВ.18 Кладка СВ стены того же помещения в середине сильно нарушена со смещением верхних из сохранившихся рядов внутрь помещения на 0.2-0.3 м (остальные при этом должны были свалиться на пол). Соседнее помещение 5, удлинённое в ССВ направлении (6x3 м) также с завалом внутри на фото [Яшаева, 1999, фото 9б] после расчистки демонстрирует сильное растрескивание южной части восточной стены близ её свободного, около сквозного проема (выхода) конца. Трещины вертикальные видимой высотой 0.6-0.8 м простираются в ЗСЗ-ВЮВ направлении19. В обоих соседних помещениях, таким образом, согласно выводятся ясные следы направленного с ЗСЗ, т. е. со стороны моря, сильного горизонтального импульса, который можно приписать только землетрясению» [8, с. 40].
Данная реконструкция представляется слишком смелой по следующим соображениям.
-
1. Разрушение неукрепленного поселка в результате пожара, вызванного нашествием врагов, выглядит гораздо правдоподобнее, чем сейсмическая гипотеза. Учитывая, что основной массив обнаруженной при раскопках керамики не выходит за пределы середины Х в., наиболее вероятно связать это разрушение с походом Песаха или печенежским набегом, сообщения о которых сохранились в письменных источниках применительно к Херсону и его округе (а не отдаленным византийским землям) [49, с. 1644-1549].
-
2. На фотографиях (рис. 9-10) видно, что над руинами помещений 4 и 5, заинтересовавших А.А. Никонова, практически отсутствует засыпь: до раскопок кладки находились у самой поверхности. Поэтому, повредить (выгнуть, развалить в различных направлениях) остатки построек могло не только землетрясение, но и механическое воздействие. Напомню в этой связи, что в 1854-1856 гг. на берегу Камышовой бухты находился французский осадный лагерь Камьеш, а в самой бухте базировался французский флот. По берегу перемещались пушки и другие тяжелые грузы. В июле 1942 и в мае 1944 г. здесь развернулись тяжелые бои между советскими немецкими войсками, в том числе, с применением танков. В 50-60-е гг. ХХ в. велось строительство Севастопольского морского рыбного порта. Поскольку речь идет о смещении легких бутовых стенок на считанные сантиметры, невозможно установить, вызвало их воздействие природных сил или антропогенное.
Поэтому, обнаруженные на участке 32 хоры Херсонеса разрушения нельзя считать доказательством землетрясения XI в., хотя принимать во внимание, безусловно, следует.
А.А. Никонов утверждает, что в той же статье Т.Ю. Яшаева описала раскопки храма на м. Виноградный [8, с. 41]. Однако, это не так: в данной публикации о раскопках этого храма не сообщается. Поэтому, наблюдения А.А. Никонова о картине сейсмического разрушения этого храма оставляю без комментариев. Напомню лишь, что в июле 1942 г. в этом районе также было сосредоточено значительное количество техники: сначала советской, затем – немецкой.
А.А. Никонов полагает, что самым восточным памятником, разрушенным землетрясением XI в., был Мангуп. Действительно, разрушения на Мангупе фиксировались. По данным В.Л. Мыца, в конце Х в. был разрушен и сгорел крестообразный храм Мангупа [30, с. 226]. Картину катастрофической гибели этой крепости (или отдельных ее частей) рисует А.Г. Герцен: «Второй этап в жизни крепости (IX-X вв. – В.Х.)… завершается гибелью поселения. Об этом свидетельствуют остатки жилых комплексов с бытовым инвентарем, погибших в пожаре… О том, что финал был быстрым , неожиданным, говорит находка клада золотых и серебряных украшений, запрятанного на краю обрыва возле угла разрушенного дома. Захоронение клада может датироваться второй половиной X – началом XI в., что следует из стратиграфической ситуации находки» [13, с. 134]. Ю.М. Могаричев полагает, что упадок поселения на Мангупе происходит на рубеже X-XI вв., «что стало результатом военной экспансии или же катаклизма природного характера (землетрясение)» [28, с. 70].20
Однако, разрушения, вызванные природными катаклизмами, датируемые X-XI веками, обнаружены и восточнее: в Гурзуфе, Партените и урочище Сотера. Первым такое наблюдение сделал А.Л. Якобсон. В 1954 году, публикуя материалы изучения могильника Горзувиты VIII-X вв., он отметил: «В погребении № 5 обращает внимание то обстоятельство, что костяк как бы разорван и растянут в длину на 3,25 м., раздвинуты и камни обкладки. Однако, положение костяка вполне правильно, сохранились и правильно залегают фаланги ног; но вместе с тем позвоночник изогнут и вдавился. Всё это приводит к предположению, что разрывы произошли в результате каких-то смещений почвы, вероятнее всего, землетрясения» [57, с. 116].
Е.А. Паршина полагает, что обнаруженные в Партените массовые разрушения Х в. следует связывать с землетрясением или селем [39, с. 95]. В более поздней работе исследовательница уточняет, что усадьбы первого строительного периода (VII-VIII вв.) в середине Х века погибли в пожаре. При этом слой разрушения был перекрыт суглинком, имеющим, вероятно, селевое происхождение.21 Разрушение поселения в урочище Сотера (в 9 км. к востоку от Алушты) Е.А. Паршина также датирует Х веком и считает, что оно погибло в результате оползня, «о чем свидетельствует сильнейший наклон стен в сторону моря, нетронутые раскаты камней от рухнувших кладок» [40, с. 118, 121-122, цитата на с. 122].
Таким образом, представление А.А. Никонова о том, что восточнее Севастопольской сейсмозоны разрушений не было, скорее всего, неверно.
Разрушительная сила и местоположение очага землетрясения.
Подведем итоги.
-
1. Источниковая база сведений А.А. Никонова о направлении гипотетического сейсмического удара землетрясения XI в. крайне ненадежна.
-
2. Сведения о том, что в сейсмозонах 2 (Ялтинской) и 3 (Алуштинской) землетрясение не было разрушительным, скорее всего, неверны: следы природной катастрофы там обнаружены.
Поэтому, присоединяясь к гипотезе А.И. Романчук о разрушительном землетрясении XI в. в Крыму, разделяя точку зрения А.А. Никонова о том, что это было местное сейсмическое событие, полагаю все же, что его очаговая область совпала с очаговой областью разрушительных землетрясений 1423 и 1927 гг. (см. рис. 11). Разрушительную силу землетрясения в эпицентре можно оценивать в 8(+1) баллов по шкале MSK-64, а его воздействие на Херсон составило 7(+1) баллов.
Выводы.
Вынужден с сожалением констатировать, что доказательная база А.А. Никонова, использованная им для аргументации гипотезы о землетрясении силой 9 баллов с эпицентром в сейсмозоне 1, датированном 1041 годом, не только неверна, но и методологически некорректна. Она не подкрепляет, а ослабляет гипотезу о разрушительном крымском землетрясении, анализу которой автор настоящей статьи посвятил свое диссертационное исследование [53; 54]. Качество доказательной базы, предъявленной А.А. Никоновым, служит дополнительным аргументом для скептиков, отвергающих сейсмическую гипотезу как таковую, но не предлагающих собственной, адекватно объясняющей многочисленные разрушения XI в. на памятниках Юго-Западного Крыма.
В настоящее время автор заканчивает работу над монографией «Византийский Херсон на рубеже тысячелетий», в которой, в частности, приводятся многочисленные аргументы в пользу того, что разрушительное землетрясение в Крыму было, и Херсонес от него сильно пострадал в период между 988 и 1015 годами.
Приложение 1
СООБЩЕНИЕ ИОАННА СКИЛИЦЫ (В ПЕРЕСКАЗЕ ГЕОРГИЯ КЕДРИНА) О ВОЕННЫХ СОБЫТИЯХ 1041 Г. НА БАЛКАНАХ
(с. 531)22: «В месяце сентябре 6549 (1040)23 г. патрикий Алузиан24, префект Феодосиополя25, второй сын Аарона26, внезапно покидает город и направляется к Делеану27 по следующей причине. Ведь в Феодосиополе этот префект был несправедливо обвинен, прежде чем [его] дело было расследовано. Иоанн28 потребовал у него 50 литр золота29, отнял сверх того прекрасное поместье его жены, находившееся в Харсиано. Разуверившись в своих делах, взяв армянское платье, притворившись слугой Василия Теодорокана30, идущим к императору, тайно ото всех убежал и прибыл, спасаясь, в Острово31.
Там Делеан со всем войском располагался лагерем. Делеан принял его с большой радостью, опасаясь, как бы к нему не склонились болгары по родству крови и общей, как казалось, причастности к прошлому царства, царской власти. Он дает ему сорокатысячное войско, приказав идти и осадить Фес (с. 532): салонику. Управлял тогда городом Фессалоникой двоюродный брат василевса патрикий Константин. Отойдя [от города] и окружив [его] рвом, [он] усердно организовал оборону. В течение 6 дней [Делеан] пытался овладеть городом. [Будучи] повсюду отражен, [он] решил снять осаду. В один из дней горожане пришли к могиле великомученика Димитрия и, совершив всенощное моление, помазавшись миром, истекавшим из божественной могилы, открыв ворота, единым натиском бросились на болгар.
Вместе с фессалоникийцами принимала участие [в столкновении] тагма Великосердных32; и врага, перепуганного неожиданным нападением, обратили в бегство, при этом никто не отважился сопротивляться или защищаться. Предводителем ромейского боевого ряда был мученик и правил путь, что подтвердили клятвенно пленные болгары, говоря, что видели там юношу-всадника, предшествовавшего ромейской фаланге, из которой вырывалось пламя, сжигавшее врагов. Погибло более 15 тысяч болгар, не меньше было пленено. Остальные позорнейшим бегством [вместе] с Алузианом бежали к Делеану.
В этом самом году3310 июня в 12 часов дня было землетрясение (Выделено мной – В.Х.) .
Потерпев поражение, Делеан и Алузиан подозревали друг друга: (с. 533): первый – стыдясь поражения, второй – подозревая предательство, таким образом, попеременно злоумышляли козни друг против друга, выжидая удобного случая. Итак, Алузиан, с кем-то из родственников приготовил завтрак, пригласил на пир Делеана; охмелевшего и опьяневшего, [его] ослепили, о чем болгарам не дано было узнать. Сам же [Алузиан] бежал в Мосинополь34 к императору. И император высылает его в Византий в сиротский приют, поставив над учителями, сам же через Фессалонику прибывает в Болгарию и, захватив Делеана, возвращается в Фессалонику. Оттуда, следуя к внутренним областям, [он] прорвался к деревянной ограде, которую сделал Мануил Ивац35 у Прилепа36, чтобы сдержать продвижение войск императора и самому овладеть внутренними областями, быстро прорвался и, разогнав союз болгар, захватил Иваца. Затем, уладив все дела в Болгарии, назначив начальников в фемах и дав отряды для их охраны, вошел в Город37, ведя с собой Делеана и Иваца. После своей болезни, совершенно не надеясь на выздоровление и продолжение жизни, [император] постригается в монахи [в монастыре] Космидии, который всегда был с ним и, при необходимости, наставлял. В декабре 10 дня 6550 (1041) года индикта 1038, [император] ушел из жизни, совершив покаяние и признав свои прегрешения, благочестиво и со слезами». [Кедрин, р. 531-533] (перевод С.И. Кургановой).
Список литературы Гипотеза А.А. Никонова о разрушительном землетрясении 1041 г. в Крыму: к вопросу о достоверности источниковой базы
- Антонова И.А. Отчет о раскопках северного фланга обороны средневекового порта//НА НЗХТ. Д. 1160. Отчет Объединенной экспедиции ГХМ, УрГУ, ХГУ о раскопках в Херсонесе в 1964 г., л. 218-293.
- Антонова И.А. Раскопки портовой линии обороны средневекового Херсонеса//НА НЗХТ. Д. 1189. Отчет Объединенной экспедиции ГХМ, УрГУ, ХГУ о раскопках в Херсонесе в 1965 г., л. 196-314.
- Антонова И.А. Оборонительные сооружения//НА НЗХТ. Д. 1606. Отчет о раскопках портового квартала и оборонительных сооружений Херсонеса в 1966 г. Ч. II, л. 1-55.
- Антонова И.А. Оборонительные сооружения херсонесского порта в средневековую эпоху//АДСВ. -1971. -Вып. 7, с. 102-118.
- Антонова И.А. К вопросу о хронологии оборонительного строительства в средневековом Херсонесе/И. А. Антонова//АДСВ. -1976. -Вып. 13, с. 3-8.
- Антонова И.А. Рост территории Херсонеса (по данным изучения оборонительных стен)//АДСВ. -1990. -Вып. 25, с. 8-25.
- Антонова И.А. Следы сильных землетрясений в Херсонесе//Фундаментальные и прикладные проблемы мониторинга и прогноза стихийных бедствий: тез. докл. -Севастополь, 1999, с. 9.
- Антонова И.А., Никонов А.А. Следы разрушительных землетрясений в Херсонесе и окрестностях в римское время и в раннем средневекововье//Очерки по истории христианского Херсонеса. -СПб.: Алетейя, 2009, с. 14-51. -(Херсонес Христианский, т. 1. вып. 1).
- Белов Г.Д. Отчет о раскопках в Херсонесе за 1935-36 гг. -Симферополь: Крымиздат, 1938. -349 с.
- Белов Г.Д. Раскопки в северной части Херсонеса в 1931-1933 гг.//МИА. -1941. -№ 4, с. 202-267.
- Бибиков М.В. Историческая литература Византии. -СПб.: Алетейя, 1998. -320 с.
- Васильевский В. Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков//В. Г. Васильевский. Труды. -СПб.: Тип. Имп. АН, 1908. -Т. 1, с. 176-377.
- Герцен А.Г. Крепостной ансамбль Мангупа//МАИЭТ. -1990. -Вып. I, с. 87-271.
- Гилевич А.М. Новый клад херсоно-византийских монет//ВВ. -1964. -Т. 24, с. 148-158.
- Гилевич А.М. Опись монет//НА НЗХТ. Д. 1160. Отчет Объединенной экспедиции ГХМ, УрГУ, ХГУ о раскопках в Херсонесе в 1964 г., л. 401-412.
- Гриневич К.Э. Отчет о херсонесских раскопках 1926 года в связи с раскопками 1907-1910 гг.//ХСб. -1927. -Вып. II. -C. 257-293.
- Деяний церковных и гражданских от Рождества Христова до половины пятагонадесять столетия, собранных Георгием Кедриным и другими/[перев. И. Иванов]. -СПб., 1794. -256 с. -(в 3 кн., кн. 3).
- Домбровский О.И. Средневековый Херсонес//Археология Украинской ССР [отв. ред. В. Д. Баран]. -Т. 2: Раннеславянский и древнерусский периоды. -К.: Наукова думка, 1986, с. 535-548.
- Жеребцов Е.Н. Раскопки Базилики 1935 г. в Херсонесе. Замечания к археологической ситуации//Очерки по истории христианского Херсонеса. -СПб.: Алетейя, 2009, с. 139-151. -(Херсонес Христианский, т. 1. вып. 1).
- Завадская И.А. Проблемы стратиграфии и хронологии архитектурного комплекса «Базилика 1935 года» в Херсонесе//МАИЭТ. -1996. -Вып. V, с. 94-105.
- Завадская И.А. Катастрофа в Херсоне на рубеже тысячелетий: источники гипотезы о землетрясении/И. А. Завадская//[XEPΣΩNOΣ ΘЕМАТА: «империя» и «полис»] тезисы докладов и сообщений II Международного Византийского Семинара (Севастополь 31.05-04.06.2010). -Севастополь, 2010, с. 11-13.
- Кирилко В.П. Крепостной ансамбль Фуны 1423-1475 гг. -Киев: Стилос, 2005. -269 с.
- Латышев В.В. Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России. -СПб.: Тип. Имп. АН, 1896. -143 с., 13 табл.
- Литаврин Г.Г. Болгария и Византия в XI-XII вв. -М.: Изд-во АН СССР 1960. -472 с.
- Люттвак Э.Н. Стратегия Византийской империи. -М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010. -664 с.
- Макросейсмические сведения о землетрясении 17 августа 1999 г. [Электронный ресурс]//Официальный сайт Геофизической службы РАН. -Режим доступа: http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/strong/19990817/macro.html.
- Михаил Пселл. Хронография/[пер. и прим. Я. Н. Любарского] -М.: Наука, 1978. -319 с.
- Могаричев Ю.М. Пещерные церкви Таврики. -Симферополь: Таврия, 1997. -384 с.
- Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Шапошников А.К. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма Хазарского периода. -Симферополь: Антиква, 2007. -348 с.
- Мыц В.Л. Крестообразный храм Мангупа//СА. -1990. -№ 1, с. 224-242.
- Никонов А.А. Сейсмическая катастрофа в Турции//Природа. -1999. -№ 11, с. 3-9.
- Никонов А.А. Раненый Крым. По следам разрушений крупнейшего на полуострове в ХХ веке природного бедствия//Крымский альбом 2002 [сост. Д. А. Лосева]. -Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. -Вып. 7, с. 72-82. -(Историко-краеведческий и литературно-художественный альманах, вып. 1).
- ОАК за 1892 год [Электронный ресурс]//. Многоуважаемый Карл Казимирович. К. К. Косцюшко-Валюжинич и его отчеты в Императорскую археологическую комиссию. -Режим доступа: http://www.kostsyushko.chersonesos.org/1892/1892.php?year=1892.
- ОАК за 1894 год [Электронный ресурс]// Многоуважаемый Карл Казимирович. К. К. Косцюшко-Валюжинич и его отчеты в Императорскую археологическую комиссию. -Режим доступа: http://www.kostsyushko.chersonesos.org/1894/1894_text.php.
- ОАК за 1895 год [Электронный ресурс]// Многоуважаемый Карл Казимирович. К. К. Косцюшко-Валюжинич и его отчеты в Императорскую археологическую комиссию. -Режим доступа: http://www.kostsyushko.chersonesos.org/1895/1895_text.php.
- ОАК за 1903 год [Электронный ресурс]// Многоуважаемый Карл Казимирович. К. К. Косцюшко-Валюжинич и его отчеты в Императорскую археологическую комиссию. -Режим доступа: http://www.kostsyushko.chersonesos.org/1903/1903.php?year=1903.
- ОАК за 1904 год [Электронный ресурс]// Многоуважаемый Карл Казимирович. К. К. Косцюшко-Валюжинич и его отчеты в Императорскую археологическую комиссию. -Режим доступа: http://www.kostsyushko.chersonesos.org/1904/1904.php?year=1904.
- ОАК за 1905 год [Электронный ресурс]// Многоуважаемый Карл Казимирович. К. К. Косцюшко-Валюжинич и его отчеты в Императорскую археологическую комиссию. -Режим доступа: http://www.kostsyushko.chersonesos.org/1905/1905.php?year=1905.
- Паршина Е.А. Торжище в Партенитах//Византийская Таврика: Сб. научных трудов (к XVIII конгрессу византинистов). -К.: Наукова думка. -1991, с. 64-100. -(АН УССР. Ин-т археологии).
- Паршина Е.А. Древний Партенит: (по материалам раскопок 1985-1988 гг.)//Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен и до наших дней [сост. В. Г. Рудницкая, И. Б. Тесленко]. -К.: Стилос, 2002, с. 89-109.
- Паршина Е.А. Средневековое поселение в урочище Сотера//Алушта и Алуштинский регион с древних времен до наших дней. -К.: Стилос, 2002, с. 117-131.
- Пустовитенко Б.Г., Кульчицкий В., Горячун А.В. Землетрясения Крымско-черноморского региона (инструментальный период наблюдений). -К.: Наукова думка, 1989. -192 с. -(АН УССР Ин-т геофизики им. С. И. Субботина).
- Романчук А.И., Сазанов А.В., Седикова Л.В. Амфоры из комплексов византийского Херсона. -Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1995. -110 с. -(Препринт/Уральский университет, предприятие АВ КОМ).
- Романчук А.И. Очерки истории и археологии византийского Херсона. -Екатеринбург: Изд-во УрГУ, -2000. -390 с.
- Романчук А.И. Строительные материалы византийского Херсона. -Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. -169 с.
- Романчук А.И. Исследования Херсонеса-Херсона: Раскопки. Гипотезы. Проблемы. -Ч. 2: Византийский город -Екатеринбург: УрГУ; НПМП «Волот», 2007. -664 с.
- Рыжов С.Г., Седикова Л.В. Комплексы Х в. из раскопок квартала Х «Б» Северного района Херсонеса//ХСб. -1999. -Вып. Х, с. 312-329.
- Сорочан С.Б. Об архитектурном комплексе фемного претория в византийском Херсоне//АДСВ. -2004. -Вып. 35, с. 108-121.
- Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI -первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры. Ч. 1-2. [Отв. ред. Г. Ю. Ивакин]. -Харьков: Майдан, 2005. -1648 с.
- Стржелецкий С.Ф. Башня XVII оборонительных стен Херсонеса (башня Зенона)//СХМ. -1969. -Вып.4, с.7-29.
- Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII-середина XIX в.). -СПб.: Наука, 2002. -676 с.
- Уломов В.И. Внимание. Землетрясение [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://seismos-u.ifz.ru/glossary.htm.
- Хапаев В.В. Византийский Херсон во второй половине Х -первой половине XI вв.: проблема разрушения города: дис. кандидата ист. наук: 07.00.02. -Севастополь, 2010. -409 с.
- Хапаєв В. В. Вiзантiйський Херсон у другiй половинi Х -першiй половинi XI столiть: проблема руйнування мiста: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. iст. наук: спец. 07.00.02 «Всесiтня iсторiя». -Днiпропетровськ, 2010. -20 с.
- Херсонес Таврический. Путеводитель по музею. -Симферополь: Крымиздат, 1956. -142 с.
- Якобсон А.Л. Средневековый Херсонес//МИА. -1950. -№. 17. -256 с.
- Якобсон А.Л. Разведочные раскопки средневекового поселения Горзувиты (близ Гурзуфа)//КСИИМК. -1954. -Т. 53, с. 109-119.
- Якобсон А.Л. К истории русско-корсунских связей (XV-XIV ВВ.)//ВВ. -1958. -Т. 14, с. 116-128.
- Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес//МИА. -1959. -№. 63. -364 с.
- Якобсон А.Л. Средневековый Крым: очерки истории и истории материальной культуры. -М. -Л.: Наука, 1964. -230 с.
- Якобсон А.Л. Крым в средние века. -М.: Наука, 1973. -176 с.
- Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. -Л.: Наука, -1979. -164 с.
- Яшаева Т.Ю. Раннесредневековое поселение в предместье Херсона на Гераклейском полуострове//ХСб. -1999. -Вып. X, с. 349-358.
- Bonito M. Terra Tremante overo continuatione de’ terremoti dalla creatione del mondo sino al. tempo presente. -Napoli, 1980. -822 p. -(Anastatic reprint, Sala Bolognese).
- Georgius Cedrenus. Ioannis Scylitzae operç/[ab I. Bekkero suppletus et emendatus]. -T.2. -Bonnae, 1839. -358 p.
- Ioannis Scylitzae. Synopsis Historiarum/[rec. I. Thurn]. -Berlin; N. Y., 1973. -580 p. -(Corpus Fontium Historiae Byzantinae, vol. 5).