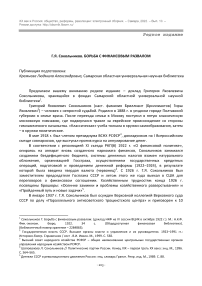Г.Я. Сокольников. Борьба с финансовым развалом
Автор: Кремнева Людмила Александровна
Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr
Рубрика: Редкое издание
Статья в выпуске: 10, 2022 года.
Бесплатный доступ
Публикация доклада Григория Яковлевича Сокольникова «Борьба с финансовым развалом», хранящегося в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки. Доклад был представлен на IV сессии Всероссийского центрального исполнительного комитета в октябре 1922 г. Текст приводится с сохранением стилистических особенностей. Дана краткая биографическая справка о Г.Я. Сокольникове.
Г.Я. Сокольников, финансовая политика, эмиссия, советская власть, денежные знаки, Донбасс, НЭП
Короткий адрес: https://sciup.org/140295162
IDR: 140295162 | DOI: 10.34830/SOUNB.2022.69.53.001
Текст статьи Г.Я. Сокольников. Борьба с финансовым развалом
Предлагаем вашему вниманию редкое издание – доклад Григория Яковлевича Сокольникова, хранящийся в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки1.
Григорий Яковлевич Сокольников (наст. фамилия Бриллиант (Бриллиантов) Гирш Яковлевич2) – человек с непростой судьбой. Родился в 1888 г. в уездном городе Полтавской губернии в семье врача. После переезда семьи в Москву поступил в пятую классическую московскую гимназию, где подвергался травле за еврейское происхождение со стороны гимназического начальства. «Классическая» учеба толкала в кружки самообразования, затем – в кружки политические.
В мае 1918 г. был членом президиума ВСНХ РСФСР3, докладчиком на I Всероссийском съезде совнархозов, где выступал против курса на аннулирование денег.
В соответствии с резолюцией ХI съезда РКП(б) 1922 г. «О финансовой политике», опираясь на аппарат вновь созданного наркомата финансов, Сокольников занимался созданием бездефицитного бюджета, системы денежных налогов взамен натурального обложения, организацией Госстраха, осуществлением государственных кредитных операций, подготовкой и проведением денежной реформы (1922–1924), в результате которой была введена твердая валюта (червонец)4. С 1926 г. Г.Я. Сокольников был заместителем председателя Госплана СССР и летом этого же года выехал в США для переговоров о финансовом соглашении. Хозяйственным трудностям конца 1926 г. посвящены брошюры: «Осенние заминки и проблемы хозяйственного разверстывания» и «Пройденный путь и новые задачи»5.
В январе 1937 г. Г.Я. Сокольников был осужден Верховной коллегией Верховного суда СССР по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» и приговорен к 10
Редкое издание
годам тюремного заключения6. Умер в тюрьме. Был реабилитирован в 1988 г. и в этом же году о нем была написана биографическая статья в журнале «Вопросы истории»7.
В нашей библиотеке имеется 2 экземпляра издания Г.Я. Сокольникова «Борьба с финансовым развалом», выпущенного тиражом 5000 экз. Несмотря на то, что в РГБ8 и РНБ9 также имеются эти издания, доклад этот еще не был представлен в оцифрованном виде.
Мы публикуем доклад НКФ на IV сессии ВЦИК в октябре 1922 г. Г.Я. Сокольникова с сохранением стилистических особенностей.
БОРЬБА С ФИНАНСОВЫМ РАЗВАЛОМ
Позвольте мне вначале напомнить, что на предыдущей сессии ВЦИК10, когда мы обсуждали доклад Наркомфина11, представлялся чрезвычайно еще спорным вопрос о том, возможно ли хотя бы частично достижение той задачи, которую ставит себе наша финансовая политика в первую очередь, – задачи стабилизации рубля. Все выступавшие ораторы утверждали категорически, что никакая стабилизация рубля в России невозможна. Я высказал противоположное предположение, – что именно в тот момент, когда мы обсуждаем этот вопрос, происходит перелом, и мы вступаем во временную полосу стабилизации наших бумажных денег. Ход событий за последние месяцы, между этими двумя сессиями, подтвердил мои предположения. Мы, действительно, имели в течение нескольких месяцев период относительной стабилизации цен, период некоторой стабилизации рубля. И в настоящее время мы далеко не полностью вышли из этого периода, как я это постараюсь подтвердить цифрами.
Позвольте прежде коротко остановиться на вопросе о том, почему советская власть, почему Народный Комиссариат Финансов борются за стабилизацию рубля, действительно ли она необходима в общих интересах нашего народного хозяйства, или же она представляет собой какую-то специфическую, ведомственную, узко-финансовую задачу, до которой много дела Наркомфину, но до которой стране, пролетариату Советской Республики, никакого дела нет? Я ставлю этот вопрос ребром потому, что в последнее время мы часто слышали из рядов товарищей, именующих себя хозяйственниками, лозунг: «к черту стабилизацию, она нам не нужна, она нам только вредна». И теперь, когда курс рубля вновь дрогнул, когда отрицательные последствия этого колебания сказались чрезвычайно болезненно, внося
Редкое издание
вновь в нашу хозяйственною жизнь элементы разложения, о которых мы готовы были начать забывать, – в этот момент необходимо поставить во весь рост вопрос о значении борьбы за стабилизацию нашего рубля и дать совершенно точный ответ на то, нужна ли она в общих интересах нашего хозяйства, или не нужна.
Приступая к решению этого вопроса, мы должны иметь в виду, что с того момента, как натуральные элементы в нашем государственном хозяйстве все больше и больше уступают место денежному хозяйству, когда промышленность уже не может развиваться без того, чтобы не обращаться к рынку, продавая свои продукты и закупая вновь сырье, – с этого момента вопрос о правильном функционировании инструмента обмена, каким являются деньги, приобретает совершенно исключительное значение. Если на рынке, где обмен происходит в денежном выражении, покупательная сила денег быстро сокращается, то это означает постоянный паралич всех хозяйственных процессов. Крестьянин не повезет на рынок свои продукты, если он в обмен за них получит в городе бумажные деньги, которые обесцениваются в течение месяца на 100%. Суживается предложение хлеба, предложение сырья, которое идет из распыленных крестьянских хозяйств.
Наша промышленность также повисает в воздухе. Она не может выпутаться из целого ряда кризисов, потому что, продавая свою продукцию за обесценивающиеся деньги, она не может восстановить запасы сырья иначе как за счет притока в нее дополнительного капитала со стороны. А если она не выбрасывает своей продукции на рынок, а задерживает ее на складах, тогда наступает кризис оборотных средств, потому что товары не реализуются, а между тем, заработную плату рабочим и целый ряд других платежей нужно производить.
Таким образом, если наша бумажная денежная валюта бессильна выполнять свои функции обмена, то, поскольку денежный обмен приобретает все более решающее значение в нашей жизни, все наше хозяйство расстраивается целиком, и все наилучшие производственные программы оказываются клочками бумажек.
Эти соображения показывают, что когда мы выдвигаем программу стабилизации бумажного рубля, мы в области экономической выполняем ту же задачу, которая была выставлена коммунистической партией в области политической – задачу смычки рабочего класса и крестьянства, задачу нового способа хозяйственного соединения города и деревни.
Вопрос об эмиссии, который имеет ближайшее отношение к вопросу об обесценении бумажных денег (несомненно, что новые массовые выпуски бумажных денег являются основным моментом, который определяет обесценение рубля) – в условиях нынешнего хозяйства получил совершенно новое значение. Рассматривать эмиссию только так, как мы ее рассматривали до 1921 года, т.е., что эмиссия – это вид налога, очень плохого, неорганизованного, но все же налога, падающего на рабочих и частный оборот, но оставляющего вне сферы своего влияния советский экономический аппарат, – теперь нельзя. Так было в 1919-20 г. В то время не существовало широкого рынка, на который бы выносила свою продукцию государственная промышленность. И когда мы выпускали бумажные деньги, то рабочие и служащие с этими деньгами обращались только на крестьянский рынок, и убыток от обесценения денег терпели, следовательно, только, с одной стороны, рабочие и служащие, с другой – крестьяне.
Но теперь вся наша госпромышленность, вся наша госторговля выносит свой товар на вольный рынок. И когда мы выпускаем в обращение триллионы бумажных денег, – то любой
Редкое издание
их держатель может прийти в государственный магазин, на любой госсклад, в трест и потребовать определенное количество товара, заплатив за него обесценивающимися бумажками. В этом случае, убыток от падения ваших бумажных денег ложится не только на вольный рынок, где есть предложение крестьянской продукции, но и на госпромышленность. От обесценения денег страдает не только их держатель, а и трест, и госпромышленность, госторговля в целом.
Таким образом, когда мы печатаем денежные знаки, мы печатаем, в сущности, талоны, дающие право на получение определенной доли продукции нашей промышленности. Поэтому, если мы шутим с эмиссией, если мы не боремся за стабилизацию рубля, то это означает, что мы идем к тому, что наша госпромышленность вместо реального капитала загружается обесценивающимися бумажными деньгами, т.е. к постепенной ликвидации государственного капитала, находящегося в промышленности. Совершенно иным будет положение, если промышленность получит возможность оперировать с рублем, более или менее стабилизованным, потому что тогда она, получая в обмен на свою продукцию деньги, которые не обесцениваются так быстро, может выйти с ними на рынок и восстановить запасы сырья без необходимости дополнительных затрат.
Таким образом, основным вопросом возможности продолжения производства и является стабилизация рубля. Она представляет возможность производить обмен на рынке в условиях, которые не означали бы ликвидацию, проедание государственных фондов.
Став самым решительным образом на точку зрения необходимости борьбы за стабилизацию рубля, мы, все же, не в состоянии выдвинуть программу немедленного прекращения выпуска бумажных денег. Наша задача сводится к тому, чтобы стремиться к сокращению роли эмиссии в нашем бюджете. Надо сказать, что эта задача частично удалась, как показывают цифры эмиссии за 1922 год. К первому января 1922 года было выпущено в обращение в круглых цифрах 17 триллионов, в январе - 12 триллионов, в феврале - 18, в марте - 32, в апреле - 46, в мае - 85, в июне -106, в июле - 154, в августе - 221, в сентябре -230 и в октябре - 260 триллионов. Эти цифры дают картину роста денежной эмиссии даже в период стабилизации рубля. Это и понятно; когда стабилизация рубля наступила в мае, когда явилась возможность использовать дензнаки, как знаки, более или менее обладающие реальной покупательной силой, то нажим на Наркомфин был настолько силен, что эмиссия в абсолютных цифрах продолжала увеличиваться.
Характеризуя состояние денежного обращения за последние месяцы этого года, мы можем сказать, что положение начинает приобретать несколько более благоприятный характер. О более благоприятном характере нужно, конечно, говорить очень осторожно, потому что все относительное благополучие денежного обращения в полном смысле слова висит на волоске, но тем не менее некоторые более или менее благоприятные признаки есть.
Они заключаются в следующем. Во-первых, во втором полугодии 1922 года рост эмиссии и в абсолютных цифрах замедляется. Если мы сравним прошлый 1921 и этот 1922 г., то мы увидим следующее: в прошлом году в июле месяце было выпущено денег на 460 миллиардов, в октябре - около 2-х триллионов. Таким образом, с июля по октябрь эмиссия более чем учетверилась. Если же мы возьмем цифры нынешнего года, то мы увидим, что в июле было выпущено 154 триллиона, а в октябре 260 триллионов. Таким образом, эмиссия
Редкое издание
даже не удвоилась и, следовательно, она растет во втором полугодии этого года медленнее, чем в прошлом году.
Затем, октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года были месяцами колоссального увеличения эмиссии, когда она с месяца на месяц удваивалась и даже более. В этом году, наоборот, начиная с августа месяца мы вертимся около цифры 200 с чем-то триллионов, и по тем предположениям, которые у нас есть, вряд ли ноябрьская эмиссия окажется значительно больше октябрьской.
Таким образом, с месяца на месяц за последнее время эмиссия перестает резко возрастать, и это дает основание предполагать, что может быть при твердой политике нам удастся избежать такого финансового краха, который был в декабре прошлого года и в январе-марте текущего.
Каким же образом оказалось возможным, что эмиссия в этом году не возрастает в абсолютных цифрах последние месяцы так, как она возрастала в прошлом году? Это оказалось возможным благодаря росту налоговых и прочих доходных поступлений республики. Здесь опять я должен с самого начала оговорить, что хотя цифры дают представление об очень значительном росте, но все-таки не нужно упускать из вида, что все поступления чрезвычайно невелики по своему реальному значению, и особенности, если их сравнить с довоенными12.
Данные о движении государственных налогов за 1922 г. представляются в следующем виде. Если принять поступление налогов в январе за 100, то в феврале было собрано 258, т.е. больше на 158%, в марте по сравнению с февралем поступление налогов дало 382, т.е. возрастание на 282%, в апреле по сравнению с мартом возрастание на 214%, в мае по сравнению с апрелем на 238%, в июне на 198% в июле на 129%, в августе на 135%. Таким образом, из месяца в месяц идет увеличение, количества денежных знаков, поступающих в уплату налогов. Посмотрим, что это дает в индексных и золотых рублях. В январе, если считать в золотых рублях, государственных налогов поступило на 835.000 рублей, в августе – на 11.500.000 рублей. Таким образом, поступления увеличились примерно в 11–12 раз. Такое же соотношение получается, если мы перечисляем номинальные суммы поступлений но товарному индексу. В августе поступление было исчислено в золотых рублях – 11.578.000, а по товарному индексу – 4.803.000. Как видите, цифра чрезвычайно незначительна сама по себе.
Кроме налогов росли и другие государственные доходы. Если мы сравним денежную выручку НКПС13 в январе месяце и выручку его же в сентябре, то картина получится следующая: в январе НКПС выручил 360 миллиардов руб., в сентябре – 83 триллиона, т.е. более в 200 с лишним раз. Цены же за это время возросли в среднем в 18 раз. Реальная выручка НКПС (в золоте и по индексу) с января по сентябрь возросла, т. образом, примерно, в 10 с лишним раз, т.е. процент роста таков же, как процент роста налогов. Выручка Наркомпочтеля14 растет медленнее, тем не менее и она характеризуется возрастанием.
Редкое издание
Если возьмем цифры последних двух месяцев, то получится такая картина: в августе месяце государственные налоги и таможенные пошлины дали 24 триллиона руб.; местные налоги и коммунальные доходы дали 18 триллионов руб.; выручка НКПС – 66 триллионов и Наркомпочтеля – 3,9 триллиона. Итого налоги и прочие государственные и местные доходы в августе дали 112 триллионов. Сентябрь дал такую картину: государственные налоги – 41 триллион, местные налоги и коммунальные споры – 26 триллионов, всего налогов более 68 триллионов. Выручка НКПС – 83 триллиона, Наркомпочтеля – 5,4 триллиона, итого, налоги и доходы дали в сентябре 157 триллионов против 112 в августе. Окончательного подсчета поступлений еще нет, но в виду того, что в октябре месяце тарифы и ставки не пересматривались, возможно, что результат октябрьских поступлений не очень значительно будет отличаться от сентябрьских, возможно, что он составит 160–170 триллионов руб.
Эти цифры дают разгадку того, как удалось затормозить рост миссии. Так как денежные ресурсы составляются, с одной стороны, из эмиссии, а с другой – из поступлений от налогов и денежных доходов, то чем больше растут поступления от налогов и доходов, тем меньше приходится прибегать к эмиссиям. Соотношение между этими налогами и доходными поступлениями, с одной стороны, и эмиссией, с другой, в течение первого полугодия этого года развивалось следующим образом.
Отношение общей суммы денежных доходов к эмиссии составляло в январе 10%, т.е. эмиссия дала в 10 раз больше, чем все поступления от налогов и доходов денежного характера. В феврале это процентное отношение было 19,3 в марте – 21,4, в апреле – 29,4, в мае – 35,4, в июне – З8,5. Последняя цифра означает, что в общем количестве денежных ресурсов, которыми мы располагали, эмиссия составляла около 3/5, а налоги и доходы 2/5. На этом уровне, примерно, держалось это соотношение и в августе, сентябре и октябре. Что касается ноября, то это, по-видимому, будет первый месяц, в течение которого впервые поступления от налогов и доходов сравняются с нашей эмиссией и, быть может, ее превзойдут. Таким образом, в общем количестве денежных ресурсов, эмиссия, возможно, будет с ноября занимать уже менее 50%.
Не так давно, если не ошибаюсь, проф. Яснопольский15, напечатал в «ТорговоПромышленной Газете» статью, в которой высмеивал политику стабилизации рубля и говорил: «какой смысл имеет эта политика, когда эмиссия все равно растет». Наша задача состояла не в том, как понимал ее этот профессор. Она заключалась не в том, чтобы абсолютно приостановить всякий рост эмиссии, а в том, чтобы рост налогов и доходов шел более быстрым темпом, чем идет возрастание эмиссии, и этого нам действительно удалось добиться.
В 1921 г. выпуск денежных знаков составлял в сентябре один триллион, в октябре – 2 триллиона, в ноябре – 3 триллиона 365 миллиардов, в декабре – 7 триллионов 694 миллиарда, т.е. из месяца в месяц эмиссия удваивалась и далее больше, чем удваивалась. Это необычайное усиление эмиссии в осенние месяцы прошлого года повело затем к кризису, и задача наша теперь заключатся в том, чтобы не допустить повторения этой картины, избежать денежного кризиса осенью и зимой текущего года. Это может удаться в
Редкое издание
той мере, в какой будет выполняться программа, собирания налогов и правильной организации нашего государственного хозяйства, но крайней мере в отношении транспорта и почты, состоящих на государственном бюджете.
Я сейчас покажу, как обстоит дело с транспортом и почтой.
Наши железнодорожные тарифы не пересматривались с июля месяца. В июне мес. железнодорожные тарифы были увеличены против довоенных в 2 миллиона раз; в то же самое время общий товарный индекс был, примерно, 4 миллиона. Таким образом, по железным дорогам в действительности мы провозили пассажиров и груз за полцены. Тариф был установлен на уровне довоенном, но в действительности, вместо рубля получали только полтинник, потому что перевод на советские рубли производился не по коэффициенту товарного индекса 4 милл., а по коэффициенту в 2 милл. Эти тарифы оставались без изменения до самого последнего времени и только 15 октября мы пересмотрели эти тарифы в сторону некоторого повышения, а с первого ноября еще повысили. И несмотря на это повышение коэффициент перевода тарифного железнодорожного рубля на советские знаки отстает от среднего товарного и от золотого индекса.
Что касается товарного тарифа, то мы продолжаем, по соглашению с НКПС и Госпланом, щадить товарные грузы, поэтому грузы перевозятся и будут некоторое время перевозиться, по сравнению с довоенным временем, в 3 и 4 раза дешевле. Эта мера осуждает транспорт на дефицит, и этот дефицит будет тем меньше, чем больше нам удается тарифы транспорта держать на уровне товарного индекса. В противном случае мы приходим к безвыходному положению для транспорта.
Мы берем с пассажиров и грузов по коэффициенту 2–6 миллиона, но когда транспорт сам покупает уголь, то он обязан платить по полному товарному индексу, так как в противном случае это грозит разрушением Донбассу. Когда транспорт платит за металл, то он должен платить также по полному рыночному индексу, ибо иначе начинает гибнуть наша металлургия. Ясно, что транспорт должен брать столько же, сколько он платит сам за металл и за уголь – и на это нужно держать курс.
Еще более разительным, является положение Наркомпочтеля. Довоенная такса Наркомпочтеля пересчитана на советские дензнаки по коэффициенту в полтора миллиона; больше того, некоторые почтовые услуги оказываются по коэффициенту в восемьсот тысяч. Все это пережитки системы бесплатности в почтово-телеграфных и ж.-д. тарифах, которые очень и очень больно бьют нас, вызывая необходимость увеличения эмиссии, и сказываются на всем решительно хозяйстве.
Одновременно с повышениями железнодорожных и почтово-телеграфных тарифов, которые предпринимаются нами в согласии с НКПС, и НКПочтелем, мы вынуждены пересмотреть и ставки налогового обложения, в первую очередь ставки обложения косвенного. Надо сказать, что наши ставки налогового обложения не изменялись с мая месяца, между тем как общетоварный индекс с того времени вырос в два раза. Следовательно, налоговые доходы, поступая в гос. кассы в прежнем, майском размере, – в своем реальном значении упали в два раза. Поэтому мы вошли в Совнарком16 с
Редкое издание
предложением восстановить реальное значение акцизных ставок, как они были установлены в мае месяце. Конечно, пересмотр этих ставок в сторону повышения, равно как и других ставок и некоторых пошлин, будет очень неудобной и тяжелой мерой, но пока мы живем с падающей и колеблющейся валютой, нет другого выхода, кроме периодического пересмотра налоговых ставок в сторону их повышения для того, чтобы наши реальные поступления не падали, для того, чтобы обесценение рубля не било наши государственные доходы и поступления от налогов.
В вопросе о повышении налоговых ставок и, вообще, в вопросе о взимании налогов с промышленности нам пришлось встретиться с чрезвычайно ожесточенным сопротивлением нашей государственной промышленности. Здесь возникает вопрос, который нельзя решить в порядке дискуссии в печати или в порядке борьбы в междуведомственных комиссиях. Это вопрос, который действительно должен быть решен и в советском порядке и в порядке партийном. Должна ли государственная промышленность уплачивать налоги, или нет?
Вопрос, в конце-концов, приходится ставить именно таким образом, ибо наши промышленники полагают, что так как они – государственные промышленники, то они сами представляют собой государство, и что, поэтому, нет никакого смысла в том, чтобы государственная промышленность платила налоги государству же.
На самом деле эта точка зрения не выдерживает никакой критики. Наша промышленность, хотя она и государственная, хотя руководители трестов только управляющие порученным им государственным имуществом, тем не менее она не есть государство. Промышленность должна передавать те ресурсы, которые в ней высвобождаются, в государственные кассы для их перераспределения. Промышленность не может претендовать на то, чтобы быть государством в государстве, на то, чтобы все свои ресурсы целиком использовать только для себя. На то она и есть советская промышленность, чтобы поддерживать своими ресурсами советское государство. И если мы откажемся от того, чтобы промышленность часть своей продукции вносила государству, – спрашивается, каким же образом будет содержаться красная армия, каким образом будет покрываться дефицит от транспорта, каким образом будет содержаться весь советский аппарат? Тогда единственным источником доходов может остаться только крестьянство. Но совершенно ясно, что политический строй, который попытался бы так построить свою налоговую систему, чтобы налоговое обложение падало только на крестьян, такой политический строй не мог бы долго существовать и такая тенденция противоречит всей нашей теперешней партийной и советской линии. Промышленность должна производить отчисления в пользу государства. Государство перераспределяет эти отчисления и, конечно, часть их вновь направляет в промышленность. И именно таким образом советское государство получает возможность проводить свой хозяйственный план. Ибо, как же поддержать тяжелую промышленность, как поддержать нефть, как поддержать металлургию, как поддержать уголь, если мы не будем иметь возможности из так называемой легкой индустрии, которая начинает уже несколько обрастать жирком, перебрасывать определенную часть ресурсов в тяжелую индустрию?
Нужно сказать определенно, что и гос. промышленность, и государственная торговля должны уплачивать налоги и не имеют права уклоняться от этой обязанности. Крупнейшими недоимщиками по налогам являются наши государственные тресты. Нужно поставить вопрос
Редкое издание
таким образом, что для нашей советской промышленности должно являться политическим долгом, долгом чести выплачивать налоги честно и своевременно, предоставляя частным промышленникам уклоняться, плутовать и т.д.
К тому же и налоги, которые должна уплачивать гос. промышленность, совсем для нее не обременительны. Все налоги, вместе взятые, которые были взысканы с начала года с промышлености, представляют по своей сумме 4 с чем-то миллиона рублей. Я утверждаю, что собиранием налогов в сумме 4 миллионов рублей никак промышленность нельзя разорить. Наше налоговое обложение является при всех цифрах, которые я приводил, смешным, ничтожным, и если мы хотим, чтобы Советская Республика дальше существовала, то мы должны в 1922–23 гг. применить совершенно иной масштаб взимания налогов. Нужно налаживать денежно-налоговую систему, без которой государство не является государством; пока оно не имеет достаточно обеспеченных источников дохода, до тех пор все висит в воздухе - и красная армия и весь советский аппарат.
Неся такое ничтожное налоговое обложение, промышленность получила в замен от Наркомфина, который будто бы проводил точку зрения ее удушения, в одном только порядке долгосрочных ссуд с мая до начала сентября - 125 триллионов деньгами и хлебом. Кроме того, через Госбанк она получила за этот же период, примерно, около 100 триллионов краткосрочными кредитами.
Но величайшая иллюзия думать так, что один Наркомфин может, путем цветных бумажек, спасти нашу промышленность. Ее можно спасти лишь путем улучшения организации производства, путем введения учета, путем правильной калькуляции себестоимости продуктов, - этим путем нужно бороться с дефицитностью промышленности.
Если положение в области финансов стало менее катастрофическим за последнее время, то это в значительной степени зависит от того, что в советском аппарате удалось произвести значительное сокращение. Количество лиц, которое состояло на государственном бюджете в начале 1922 года, превышало вместе с армией 6 миллионов. В настоящее время оно лишь несколько превышает 3 миллиона. Таким образом, число состоящих на государственном иждивении сократилось вдвое.
Я перехожу теперь к сокращению государственных расходов. Сокращение расходов оказалось возможным потому, что был выдвинут целевой принцип. Удовлетворяются все больше и больше только такие потребности, которые признаются абсолютно заслуживающими полного своего покрытия, и этим избегается распыление средств.
И, наконец, третья мера, которая в значительной степени позволила сократить общегосударственный дефицит, состояла в разделении местного и государственного бюджетов. Эта мера, проведенная весной текущего года, в момент чрезвычайного обострения финансового кризиса, вызвала жестокие протесты как с мест, так и в центре - со стороны ряда Наркоматов, по которым расходы были отнесены на местные средства. Они выставляли то соображение, что эта передача различных гос. потребностей на местные средства на самом деле представляет собой просто выкидывание их за борт, что те отрасли государственной работы, которые передаются на местные средства, осуждаются на гибель. В действительности этого не произошло и, наоборот, передача части расходов на местные средства и передача целого ряда доходных источников местам привела к развитию местных
Редкое издание
доходов, местных налогов, привела к организации местного бюджета, и теперь мы являемся свидетелями того факта, что местные доходы и налоги растут быстрее, чем государственные.
В общем, в сумме налоговых поступлений, которые я перечислил за август и сентябрь, местные поступления составляют около 40%. Несомненно, что положение на местах остается чрезвычайно затруднительным, несомненно, что местам придется проявить огромную долю творчества, изобретательности, напряжения всех своих сил для того, чтобы выйти из создавшегося положения, но не подлежит также никакому сомнению, что местные налоги взыскиваются легче, чем государственные, что в этом отношении местные исполкомы могут добиться хороших результатов, так как налоги приобретают в большей степени целевой характер. Трудно было бы обложить крестьян общегосударственным подворным денежным налогом, поступления от которого по представлению местного населения пойдут в Москву неизвестно на что. Но когда взимается местный налог, и деньги расходуются в пределах губернии на удовлетворение всем понятных местных нужд, то эта система оправдывает себя финансовыми результатами.
По квартальному бюджету на октябрь – декабрь, на местные нужды относится дополнительно к тому, что раньше было передано, содержание милиции и содержание учительского персонала в школах первой ступени. Вместе с тем местам передаются и новые доходные источники от вводимых новых налогов. Об этих новых источниках я буду еще говорить потом, здесь же я бы хотел отметить один вопрос, который приобретает политическое значение. А именно: толкаемые потребностью в деньгах, местные исполкомы, сплошь и рядом, вводят самочинно налоги и сборы, которые никем не утверждены и не разрешены. Это положение таит в себе величайшие опасности, так как связано с величайшей налоговой анархией на местах. В одной из северных губерний исполком ввел 22 непредусмотренных никем местных налога. На Украине, в правобережных губерниях, как сообщают, самочинные местные налоги сделали жизнь совершенно невозможной. Мы рискуем вызвать чрезвычайное недовольство широчайших трудящихся масс, если будет развиваться налоговый произвол. Налоги на местах могут вводиться только те, которые утверждены специальным списком, принятым ВЦИК. Если места предполагают вводить новые налоги, то для этого нужно предварительно получить разрешение центра. Это дает известные гарантии против того, что на почве развития местных налогов, мы не натолкнемся на крупнейшие политические осложнения.
Каковы перспективы нашего государственного бюджета на предстоящий год? В настоящее время мы можем их определить более точно, чем это было по отношению к 1922му году. Первый бюджет, утвержденный съездом Советов, предусматривал годовой бюджет и 1.800.000.000 довоенных золотых р. Второй, ориентировочный бюджет, предусматривал всего 1.200.000.000 рублей. Эти цифры являются преувеличенными. Надо совершенно трезво смотреть в лицо действительности и сказать, что реально больше одного миллиарда золотых рублей или одного миллиарда индексных рублей – как угодно – мы в своем распоряжении иметь не будем. И нужно по этой одежке протягивать ножки, так как абсолютно ничего сделать нельзя, раз реальные поступления, включая и доход от эмиссий, не могут дать ни в коем случае свыше одного миллиарда, точнее – 900 миллионов рублей. Бюджет первого квартала периода 1922–1923 гг., который проходит теперь через Совнарком, предусматривает общий итог доходов и расходов в 180 миллиардов рублей в
Редкое издание
денежных знаках 1922 года или, если считать все нули, это составит один квадриллион восемьсот триллионов рублей. Этот квадриллион 800 триллионов рублей приходится на три месяца. Если их перевести по нынешнему реальному курсу золота или по индексному коэффициенту, то это составит 250 миллионов рублей на золото. Таким образом, первый квартал подтверждает сказанное мною выше: двести пятьдесят миллионов на квартал как раз дадут один миллиард в течение целого года.
При составлении квартальных бюджетов и при исполнении наших месячных бюджетов, для нас каждый раз основным вопросом является вопрос о фонде заработной платы, ибо, прежде всего, приходится учитывать повышение цен продуктов, потребляемых рабочими. Нужно сказать, что, по сравнению с маем месяцем, реальное значение фонда заработной платы в нашем бюджете возросло более, чем вдвое. Заработная плата рабочих, которые состояли на госбюджете, если взять денежное и продовольственное ассигнование, составляла в мае около 30 триллионов рублей. На октябрь месяц фонд заработной платы составлял около 120 триллионов, т.е. увеличился в 4 раза; между тем, индекс за это время поднялся всего в 2 раза. Таким образом, реальная ценность средств, которые государство отпускает служащим и рабочим, состоящим на государственном бюджете, увеличилась вдвое. Она в действительности увеличилась более, чем вдвое, благодаря тому, что одновременно шло сокращение и числа служащих и рабочих, которые оставлены на государственном бюджете.
Позвольте тут же вам сообщить о мерах, которые мы предполагаем предпринять, вернее, о попытках, которые мы думаем сделать для того, чтобы застраховать рабочих от обесценения бумажных денег, получаемых ими в виде заработной платы.
Мы предполагаем организовать – вначале в небольших размерах, в крупнейших пролетарских центрах – сберегательные кассы, которые бы давали рабочему возможность вносить туда заработок, чтобы, в случае обесценения советского рубля, по отношению к бюджетному индексу рабочего, он получал из этой сберегательной кассы внесенные деньги в увеличенном размере, т.е. получал бы денежные знаки в соответствии с реальной стоимостью предметов продовольствия и вообще потребления, входящих в бюджетной индекс рабочего. Конечно, можно сказать, что заработок рабочего не настолько велик, чтобы он мог откладывать его в эти сберегательные кассы. Но тут дело идет не о том, чтобы действительно сберегать, а о том, чтобы рабочий мог полученную заработную плату не выбрасывать сразу на рынок, не рискуя в то же время обесценить откладываемую часть денег. Таким образом, в смысле политики, направленной к удержанию реальной заработной платы рабочих, эта мера может дать свои полезные результаты.
Бюджет на 1922–1923 гг., как я говорил, может составить примерно 900.000.000, максимум – миллиард золотых рублей. Как же можно рассчитывать покрыть эти расходы? В первую очередь, надо указать на продналог, во-вторую очередь на денежные налоги, затем на денежные поступления от транспорта, почты и телеграфа, от лесных доходов и, наконец, от кредитных операций.
Позвольте прежде всего остановиться на значении продналога в нашем государственном бюджете. Благодаря урожаю, в этом году продналог выполнен крестьянством в большей мере, чем в прошлом году. Но для нашего государственного бюджета от этого не проистекает никаких облегчений, потому что урожай одновременно
Редкое издание
повел к падению хлебных цен, так что, если брать стоимость продналога в бюджете, выраженную в денежных знаках, то, несмотря на урожай и на увеличение поступлений от продналога, возможно по сравнению с прошлым годом уменьшение значения продналога по его денежной стоимости, в виду понижения хлебных цен. Мы имеем здесь пример падения не только бумажно-денежной валюты, но и пример обесценения хлебной валюты. Хлеб тоже может обесцениться, и, поскольку продналог внесен обесцененным, по сравнению с прошлым годом, хлебом, наш государственный бюджет от этого потерял. Тем большая необходимость у нас увеличить долю денежных налогов, и НКФин внес в СНК17 представление о введении новых прямых налогов, ибо в этом году, наравне с косвенными налогами, необходимо ввести и прямые налоги, перенося постепенно на них центр тяжести. В числе этих прямых налогов, мы повторяем, общегражданский налог, который в этом году будет иметь своим главнейшим назначением не борьбу с голодом, а поднятие сельского хозяйства, при чем распределить поступления от него предполагается таким образом, что часть пойдет в распоряжение Последгола18, часть в распоряжение НКЗема19, значительная часть пойдет на организацию с.-х. кредита и, наконец, некоторая часть будет отчислена на местные нужды.
Кроме общегражданского налога предположен к введению подоходнопоимущественный налог. Этот подоходно-поимущественный налог должен упасть на доходы, которые до сих пор, в особенности в городах, ускользали от обложения, – на доходы лиц свободных профессий – врачей, адвокатов, литераторов и т.д., вообще на буржуазную городскую интеллигенцию, которая до сих пор никаких налогов не платила, далее на комиссионеров-посредников, наконец, на служащих, которые получают оклады сверх известной нормы.
Этот подоходно-поимущественный налог не распространится на деревню, так как в деревне введен и действует подворно-денежный налог, который представляет из себя вариацию подоходно-поимущественного налога. Ставки подоходно-поимущественного налога предположены небольшие. Это сделано вполне сознательно по следующим соображениям введение этого налога, его осуществление – вещь необычайно трудная, и никоим образом нельзя рассчитывать, что в течение первого же года нам удастся полностью получить от этого налога все, что он может дать. Надо составить списки плательщиков, нужно учитывать доходы, имущество, все это – работа чрезвычайно трудная, которая требует много времени. Если бы ставки были высоки, то мы встретили бы чрезвычайно большое сопротивление. Поэтому мы считаем необходимым пока ввести небольшие ставки, тем более, что первое время технические приемы взимания будут несовершенны, – возможны массовые ошибки, злоупотребления.
Но есть другой – более спорный вопрос, связанный с подоходно-поимущественным налогом. Он состоит в том, нужно ли вводить подоходно-поимущественный налог или только подоходный. На параллельно настоящей сессии ВЦИК идущем Всероссийском Съезде
Редкое издание
финансовых работников раздавались голоса за то, чтобы ввести этот налог только как подоходный, чтобы имущество, не приносящее дохода, не облагать. Я считаю это неправильным, да и Съезд отверг такого рода точку зрения. Доходы старой буржуазии как раз выражаются в том, что она постепенно ликвидирует имущество, но и новая буржуазия все свое накопление и доходы обращает в имущество и, таким образом, изъятие неприносящего дохода имущества от этого вида обложения было бы мерой, которая дала бы возможность и новой и старой буржуазии укрыться от всякого обложения. Конечно, подоходно-поимущественный налог никоим образом не должен вылиться в контрибуцию. Он не должен повести в своем применении к массовым облавам, обыскам и т. д. Если таковые будут иметь место при взимании этого налога, - он сорвется и результата не даст. Нужно вводить его организованным путем, привлекая к участию советские и партийные силы, но во что бы то ни стало сохраняя за ним характер организованно и планомерно проводимой меры.
Переходя к кредитным операциям, как бюджетному ресурсу, я отмечу, прежде всего, что попытку первого хлебного займа в общем и целом нужно считать удавшейся. Те сведения, которые у нас есть, показывают следующее. Во-первых, все облигации этого займа разошлись. Из них 85% разошлось до того, как взимание продналога приняло широкий характер, и, таким образом, заем сохранил характер кредитной операции. Когда началось взимание продналога, курс облигаций быстро поднялся, и в последнее время они, вместо выпускного курса в 3.800.000, продавались по курсу 5.800.000 и выше. Крестьянство, которое вначале не вполне доверяло этим облигациям хлебного займа, ознакомившись, проявило тяготение к ним, и в 1923 году можно будет повторить хлебный заем раньше по сроку и в больших размерах, чем это было сделано в этом году.
Перспектива займов, которую мы имеем на 1922–23 год, чрезвычайно скромна. Ни о каких крупных заграничных займах не приходится говорить. Их нужно снять совершенно со счета. Может быть что-нибудь в этой области удастся сделать, но это не может заранее входить и наши расчеты. Мы предполагаем попытаться произвести в ближайшее время в небольших размерах внутренние кредитные операции. Предположен выпуск выигрышного займа к 100 милл. руб. золотом, из 6% годовых, с выделением, кроме того, выигрышного фонда в 10 миллионов золотом. Проценты и выигрыши по этому займу за-границей выплачиваются в золоте или в соответствующей иностранной валюте по золотому паритету, а внутри России - в советских знаках по текущему курсу золотого рубля. Погашение займа начнется но истечении 5 лет. Тиражи выигрышей начнутся с 1923 года и, если не ошибаюсь, первый тираж предположено назначить на I мая. Как удастся реализация этого займа, сейчас, конечно, сказать трудно, но надо думать, что и внутри России, а, может быть, частично и вне России - за-границей - размещение его окажется возможным, и тогда эта операция себя оправдает. Как бы то ни было, она нам необходима, потому что рано или поздно государственный кредит должен быть у нас восстановлен, и нужно приступать к этому делу сейчас, хотя бы в виде первых небольших опытов.
Я хотел бы в заключение указать на связь между состоянием наших финансов и нашей внешней торговли. Эта связь становится все более чувствительной. Мы не можем теперь, как в 1919 году, представлять себе, что наше хозяйство будет целиком автономным хозяйством хозяйственно замкнутой и хозяйственно изолированной страны. В 1919 г. при политическо-
Редкое издание
экономической блокаде, было естественно думать, что все, что нам нужно, мы будем производить сами и что мы будем все решительно отрасли промышленности, какие только возможны, развивать у себя внутри страны. В настоящее время, конечно, совершенно бесспорным является то, что мы вступаем в систему международного разделения труда, и что не имеет смысла производить у себя то, что нам выгоднее ввозить из-за границы. Мы идем навстречу все большей и большей связи, навстречу все большей зависимости от международного рынка. На это не нужно ни в коем случае закрывать глаза.
Но наша зависимость от международного рынка отягощается тем обстоятельством, что некоторые основные отрасли нашей промышленности начинают нуждаться в сырье, которое они могут получить только из-за границы. Так обстоит дело в особенности с нашей текстильной промышленностью, которая работала раньше на туркестанском хлопке, а теперь, в виду того, что посевы хлопка в Туркестане резко сократились, должна будет работать на привозном хлопке, который придется оплачивать либо золотом, либо соответствующим вывозом из Советской России.
Я не думаю, чтобы среди нас нашлись сторонники решения задачи обеспечения текстильной промышленности хлопком путем вывоза нашего золотого фонда. Мы, конечно, могли бы его употребить на это дело, но потом мы остались бы без всякого золотого фонда, т.е. без всякой возможности, какие бы то ни было другие наши потребности удовлетворять путем заграничных закупок, и без всякой возможности и перспективы урегулировать наше денежное хозяйство внутри страны.
Конечно, никто не может с особенной симпатией относиться к необходимости вывоза, но если хочешь ввозить, то нужно обязательно что-нибудь и вывозить. Поэтому, задача организации нашего экспорта ставится на очередь дня, как основная хозяйственная задача. Чтобы мы могли быть уверенными, что наша текстильная промышленность через несколько месяцев не остановится, и что центрально-промышленный район, который является основной базой Советской России, - не умрет, нам нужно организовать экспорт. У нас пропадает бесконечное количество сырья. У нас не утилизируется целый ряд продуктов сельского хозяйства. Спасение для нашей промышленности заключается в восстановлении сырьевого экспорта.
С другой стороны, и для нашего крестьянского хозяйства развитие этого товарного экспорта является вопросом жизни и смерти, ибо наша промышленность в противном случае не будет в состоянии удовлетворить полностью все запросы крестьянского хозяйства.
Если наш экспорт не будет развиваться в соответствующей степени, если мы не сможем организовать в крупных размерах нашу внешнюю торговлю, если мы не сумеем обеспечить в короткий срок ее быстрого развития, то нас начнет бить и финансовый кризис, ибо потребность в мировой валюте будет вести к тому, что советские деньги будут отдаваться за любую цену нашими трестами и нашими торговыми предприятиями, лишь бы получить некоторое количество долларов и стерлингов. Результатом этого может быть падение нашей валюты. Эту перспективу мы должны иметь в виду. Чтобы избегнуть ее - нужно организовать внешнюю торговлю так, чтобы она справлялась с растущими потребностями страны.
Итак, если мы разрешим намеченные мной основные задачи, т.е. будем вести твердую линию по отношению к эмиссии и непроизводительным государственным расходам; если мы будем неуклонно добиваться рациональной организации государственной
Редкое издание
промышленности и торговли; если осуществим максимальный нажим на денежные налоги; если сумеем удачно организовать нашу систему внешней торговли, – тогда в течение этого года мы добьемся существенных успехов в нашем финансовом положении. И несмотря на то, что нам отказано заграницей в займах, несмотря на это, наше финансовое положение будет неизмеримо лучше, чем год тому назад, и мы сможем с уверенностью сказать, что нами подведена финансовая база под советское государство, без чего это государство не может считаться созданным и укрепленным.
Заключительное слово
Тов. Богданов20 прежде всего несколько неправильно цитировал мои слова, отнеся их ко всей промышленности, тогда как я говорил, что легкая промышленность начинает обрастать некоторым «жиром», что в некоторых отраслях легкой промышленности положение становится значительно более благоприятным, и этого тов. Богданов не опроверг, а подтвердил, потому что он сказал, что, действительно, легкая промышленность находится в лучшем положении. Это – первое. – Второе, относительно тех отраслей промышленности, которые находятся в тяжелом положении. Я считаю необходимым отстаивать ту точку зрения, что то, что они должны уплатить в качестве налога, они уплатить должны. То, что им должно быть дано для их поддержки, им дано быть должно, но рассчет должен быть ясен: столько-то предприятие уплатит как государственный налог, а столько-то с другого конца получит. В противном случае мы никогда не придем к составлению правильного отчета ни по предприятиям, ни по государственному бюджету.
Я привел тут факты – и мог привести их чрезвычайно много – о том, что в целом ряде правлений трестов встречает чрезвычайное сопротивление уплата падающих на них налогов. Я сказал, что советская промышленность в советском государстве такой линии вести не должна. И тов. Богданов, и поддерживавший его тов. Шаров21 вместо того, чтобы ясно сказать: мы осуждаем эту линию, мы осуждаем эту практику, мы предлагаем правлениям трестов уплатить полностью налоги, которые с них причитаются, вместо того, чтобы подчеркнуть, что долг чести со стороны государственной промышленности – выполнить свои обязанности по отношению к советскому государству, – сказали другое. Если налоговая практика и налоговая система несовершенны, – а что это верно, я не отрицаю, ибо мы находимся при начале налогового строительства, – все-таки эту налоговую практику и эту налоговую систему может исправлять только советская власть, а не правления отдельных трестов. Правления отдельных трестов должны выполнить все обязательства, которые законом советской республики на них возложены. И в самом деле: для комиссионеров, для посредников у трестов, к сожалению, находится достаточно средств, и всем известно, какие колоссальные суммы из ресурсов, которые имеются в наших трестах, попадают в карманы новой буржуазии, которая из нашей промышленности умеет извлекать колоссальнейшие доходы, именно при помощи организации посредничества, комиссионерства и т.д., действующей через свою агентуру. Не будьте слепы, в правлениях трестов, вокруг трестов
Редкое издание
сидят старые фабриканты, старые заводчики, и нужно отдавать себе ясный отчет в тех опасностях и в тех последствиях, которые вытекают из этого для нас. Это – цепь, которая обволакивает нашу государственную промышленность. Посмотрите, что делается в Москве и других крупных центрах. И вот, мы говорим правлениям трестов: боритесь за то, чтобы управляемые вами предприятия прежде всего выполняли свои обязанности но отношению к государству. Может быть, меньше останется для комиссионеров и для посредников, если вы будете больше смотреть за тем, что делается в ваших кассах и выполнять ваши обязанности по отношению к своему государству. Может быть, вы сумеете внести больше порядка и больше жесткости в свои отношения к облипающим вас паразитам.
Тов. Богданов говорил о том, что нужно помочь государственной промышленности, а не отделываться фразами. Совершенно верно, но мы считаем, что отделываться фразами, это значит сказать: давайте наладим наше хозяйство и больше ничего. Тов. Богданов смысл своей речи свел к требованию тех же самых гознаков22. Это-то и есть фраза, это-то и есть обман. Вам нужен обман фонтана цветных бумаг или вам нужно реальное дело? В чем заключается это реальное дело? В том, что с величавшим трудом нам и вам и советской России приходится чинить свое хозяйство, как Тришкин кафтан, в котором дыры решительно повсюду. И когда т. Богданов говорит, что нужно дело, а не фраза, мы можем спросить: например, с транспортом есть какое-нибудь дело или нет? Если вы оцените в общем положение транспорта, вы признаете, что оно сейчас стало легче, чем несколько месяцев тому назад. Я не буду говорить, что тут чудеса Наркомфина и прочее. Возражая т. Ларину23 я остановлюсь на этом.
Позвольте сказать относительно Донбасса пару слов. В Донбассе имеет место сезонный уход забойщиков частью в свои, частью в крестьянские хозяйства с целью обеспечить себя хлебом на весь год. Конечно, с точки зрения продукции Донбасса в течение одного месяца, шести недель это явление чрезвычайно вредное, чрезвычайно плохо отражающееся на производительности Донбасса. Но нужно с этим считаться. Вы думаете, что сейчас мы, действительно, можем и должны запретить забойщику уходить на шесть недель из Донбасса, чтобы обеспечить себя хлебом на целый год? Я считаю, что если забойщик в течение нескольких недель обеспечит себя и свою семью хлебом, то в дальнейшем он будет только лучше работать. И последние цифры, действительно, показывают, что забойщики уже частью вернулись. Можно ли говорить, что наша финансовая политика привела к кризису Донбасса? Я утверждаю, что это совершенно не верно, и утверждаю это с тем большей категоричностью, что те долгосрочные ссуды, которые мы в размере 125 триллионов рублей передавали в ВСНХ – их распределял сам ВСНХ, а не Наркомфин. Как же можно упрекать Наркомфин, что ВСНХ из этих 125 триллионов дал чрезвычайно крупную сумму на сахарное, например, производство и не дал больше на Донбасс? Нельзя требовать от Наркомфина, чтобы в его руках находилось распределение этих сумм, – против этого протестует сам Богданов, указывающий, что нами зарезан Донбасс. Я утверждаю, что летом мы дали достаточно средств, в виде этих 125 триллионов рублей, которые были Выссовнархозом24
Редкое издание
распределены по пятнадцати отраслям промышленности, в том числе и легкой промышленности, вместо того, чтобы быть сконцентрированным на тяжелой индустрии. Теперь, на днях, мы пришли к специальному соглашению с Донбассом, который нами обеспечен, и до конца года нам не придется думать о том, что Донбасс может переживать финансовые затруднения. Его дефициты будут целиком покрыты. Я спрашиваю: это фраза или дело?
Я считаю, что это дело. Но если вы скажете: почему Донбасс, а не вся промышленность, то я спрошу, – а где же средства? Если удалось в пределах неотложной необходимости финансировать транспорт, если удалось несколько гарантировать Донбасс, если удастся предотвратить свертывание металлургической промышленности (конечно, не методами Ларина), то это и есть настоящее дело, а не фраза.
Теперь я перехожу к возражениям тов. Сосновского25. Я коснусь прежде всего вопроса о спичках. Спички у нас положены в 8 раз меньше, чем в довоенное время. Кризис в спичечной промышленности весной объясняется тем, что спичечный синдикат неправильно повел свои дела. Он выбросил сразу на рынок большое количество своей продукции и этим понизил на неё цены. Сказать, что в этом виновата политика Наркомфина, ни в коем случае нельзя.
Теперь вопрос об армии. Тов. Сосновский просил без всяких запугиваний сообщить здесь действительное положение бюджета армии. Я отвечаю. Выло время, когда мы выдерживали армию и 51/ 2 миллионов человек, но это была армия на фронтах, которая жила за счет крестьянства, за счет старых запасов, имевшихся на складах. Если бы мы попробовали сейчас армию расквартировать по деревням и сказать, что пусть она питается за счет крестьян, то мы имели бы то, что имели в 1920 году. Это была бы система военного коммунизма. Но это невозможно. Армия сейчас сокращена, содержать ее стало как будто бы гораздо легче, но на самом деле облегчения не получилось, потому что, прежде всего, армия раньше не платила ни текстильной, ни орудийной, ни кожевенной промышленности, за получаемые ею продукты, а сейчас она платит полным рублем. И она должна платить, потому что раньше текстильные фабрики жили старым запасом хлопка, а сейчас этого старого запаса нет, и чтобы текстильной фабрике существовать, она должна получать деньги с военного ведомства, а военное ведомство должно иметь для этого средства.
Поэтому материальный бюджет армии, с переходом от натурального хозяйства к денежному, возрос в огромной степени. Мы возьмем, далее, содержание личного состава армии. Я спрашиваю: можно ли в нашей армии оставить командный состав на положении, на котором он был раньше? Конечно, нет. В демократической стране, в хорошем смысле этого слова, – в стране, где власть принадлежит трудящимся массам, невозможно, чтобы командный состав армии, вышедший из этой массы, зарабатывал меньше, чем зарабатывает рабочий? Поэтому мы вынуждены при сокращении армии увеличить значительно то содержание, которое получает командный состав, прежде всего – низший командный состав. Поэтому расходы по армии растут.
Теперь я возвращаюсь к одному интересному вопросу, который был поднят т. Сосновским, – и тут у нас есть формальное совпадение мысли. На последнем докладе,
Редкое издание
который я делал на собрании ответственных работников в Москве и на Съезде финансовых работников, я точно так же противопоставлял перспективу восстановления промышленности, которую считал бы правильной выдвинуть теперь, той перспективе, которую в 1919 г. выдвигал т. Гусев26. По его «плану» в начале идет производство средств производства, затем производство средств для выработки предметов потребления, и лишь потом начинается производство предметов потребления и т.д. Иначе говоря, расположение такое: сначала развитие тяжелой индустрии, потом развитие легкой индустрии, которая получит свое оборудование от тяжелой индустрии, а потом, когда разовьется легкая индустрия, она будет вырабатывать предметы потребления и бросит их на крестьянский рынок. А нам нужно поставить всю эту систему на голову, но не так, как т. Сосновский ее понимал. Мы говорим прежде всего: возможности развития, финансовой политики определяются возможностями развития крестьянского хозяйства.
И в этом смысле развитие идет в обратном порядке, чем это предусматривалось в 1919 году. Именно, как показывает опыт, раньше поднимается крестьянское хозяйство, и на базе, на основе крестьянского спроса на предметы легкой и отчасти тяжелой промышленности развивается, главным образом, легкая промышленность. Эта легкая промышленность, развивая свою продукцию, укрепляясь, начинает предъявлять спрос на предметы тяжелой индустрии, и тогда развивается тяжелая индустрия. Это – тот порядок, по которому мы, действительно, пойдем, тот порядок, на котором мы строим свою финансовую политику, как политику, соответствующую определенному хозяйственному плану. Но, конечно, мы не представляем этот процесс и наши обязанности таким образом, что только после того, как легкая индустрия настолько разовьется, что сможет оплачивать полностью всю продукцию тяжелой индустрии, только после этого мы, государство, придем на помощь тяжелой индустрии. Нет, мы говорим: сейчас, пока такое положение не наступило, мы, рабочее государство, мы – правительство рабочего класса, должны поддерживать в первую очередь по совершенно понятным основаниям тяжелую индустрию за счет тех действительных ресурсов, которые мы имеем. И мы требуем максимального планового сосредоточения этих ресурсов. Мы говорим: нельзя разбрасывать фонтанами бумажные деньги, которые растекаются по всему решительно рынку. Если мы держим в своих руках учет и, действительно, работаем по плану, то мы можем сказать, что Донбассу столько-то средств мы даем, а на второстепенные статьи средств у нас нет. И тогда эти средства, которые даны Донбассу и на транспорт, не обесценятся, и рубль не потеряет своей ценности. Это и есть политика стабилизации рубля.
Но мы должны помнить, что те реальные ресурсы, которые мы имеем, в значительной степени определяются размерами налоговых поступлений. Я позволю себе напомнить товарищам телеграмму, которую тов. Ленин27 послал не так давно всероссийскому съезду профсоюзов. Телеграмма, как всегда у тов. Ленина, в двух трех словах вносит полную ясность в вопрос. Тов. Ленин говорит: «на заграничные займы рассчитывать особенно не приходится.
Редкое издание
Мы сможем поддержать нашу промышленность и улучшить положение рабочего класса в меру того, как будут собираться у нас налоги». Вот, следовательно, ответ тов. Сосновскому. Нам нужно понять и проводить политику, соответствующую именно такой очередности: подъем крестьянского хозяйства – первый этап к тому, чтобы развить товарный характер крестьянского хозяйства, предложение товаров со стороны крестьянства в городе, усиление процессов обмена между городом и деревней. На этом пути мы упираемся в проблему стабилизации курса рубля.
Теперь я позволю себе перейти к речи тов. Ларина. Тов. Ларин сравнивал меня со всевозможными персонажами. Я был и Людовиком XVIII в течение его речи, был Ивановым VII, потом фигурировал в роли крылатого существа и т.д. Я должен сказать, если уже позволить себе сравнение, что, когда я слышал начало речи тов. Ларина, я думал, что имею дело со страшным крокодилом, который острыми зубами меня съест. Потом я успокоился и увидел, что это тот самый юмористический «Крокодил», который продается во всех киосках. Ничего убедительного, ничего серьезного в том, что сказал тов. Ларин, не было. Я не буду обсуждать вопрос о том, что, скажем, в декабре прошлого года я написал статью, в которой выдвигал введение гарантированного рубля, т.е. бумажных денег с фиксированным курсом на золото и с курсом, меняющимся на советские деньги, и что только теперь мы к этому пришли. Ларин говорит, что это нужно было сделать в декабре же: но дело это так скоро не делается. Целый ряд огромнейших трудностей мы встретили на этом пути, и только теперь в ноябре месяце государственный банк мог начать выпуск своих билетов с курсом, фиксированном на золото. При этом я должен указать на то, что пройдет еще, быть может, полгода до того, как эти банковые билеты привьются в обороте.
Но я не буду останавливаться на этом вопросе, потому что тов. Ларин на нем своего внимания не сосредоточивал, а, главным образом, доказывал, что хотя Наркомфин утверждал, что он сократит эмиссию, но на самом деле он ее не сократил.
Тут приходится спросить т. Ларина: какое же вы выдвигаете по отношению к нам конкретное обвинение? В том, что мы выпустили слишком много или слишком мало денег? Тов. Ларин рассуждает так: с одной стороны, Наркомфин предполагал сокращение эмиссии, и это было плохо. А с другой стороны, он выпустил много дензнаков, и это было хорошо. Позвольте внести совершеннейшую ясность в этот вопрос, в который тов. Ларин хотел внести туман. С увеличением эмиссии на протяжении периода стабилизации мы можем вполне помириться. Суть в том, что когда наш рубль начинает колебаться – в такие моменты, конечно, мы должны всемерно стремиться задержать эмиссию. Когда же мы видим, что она приобрела на рынке более благоприятное положение, мы сейчас же стремимся советский рубль в возможных пределах шире поставить на службу советскому государству, советской промышленности, транспорту и т. д. – т. е. когда у нас наступает стабилизация, хотя бы и не абсолютная, то это дает нам некоторую свободу действий. Когда же положение ухудшается, тогда мы должны сокращать свою эмиссию особенно тщательно.
Тов. Ларин говорит: вы нам предложили бюджет, по которому дефицит предполагался в 135 миллионов, а на самом деле дефицит получился гораздо больше. Это т. Ларин ставит в вину Наркомфину. Но ведь наркомфинский проект бюджета не был окончательным. Наркомфинский проект бюджета проходил через Совнарком, он выдержал ряд натисков со стороны мест и центра, со стороны Наркоматов, и в результате мы пришли к определенной
Редкое издание
цифре, предполагающей больший дефицит. Мы, конечно, знали, что это будет так. Сначала мы предложили меньше, а потом, после длительной борьбы с Совнаркомом, итог оказался больше, так что в этом возражении ничего серьезного со стороны тов. Ларина нет. Но нужно иметь в виду, что эмиссия в общем и целом дает определенно-ограниченный доход в один месяц несколько меньше, в другой – несколько больше. Допустим, например, что эмиссия дала нам в один месяц 40 миллионов в реальных рублях; если в следующий месяц она снизится, и начинается резкое понижение рубля, то это показывает, что нам нужно сократить нашу эмиссию, нужно сделать так, чтобы выпуск бумажных денег не превращался в пустую бессмыслицу: в минувшем сентябре мы и получили такое предостережение.
Тов. Ларин, приводя нам в пример Германию, утверждает, что в Германии, именно благодаря бумажной эмиссии, удалось продолжать работу немецкой промышленности. Здесь мы имеем дело с одним из самых недопустимых заблуждений, основанных на смешении интересов германского народного хозяйства в целом с интересами отдельных групп немецких промышленников, работающих на вывоз. Политика немецкой эмиссии основана на том, что Германия должна выплачивать контрибуцию в заграничной валюте и поэтому она вынуждена выпускать огромное количество своих бумажных денег, для того, чтобы на эти бумажные деньги закупать заграничную валюту. Но к чему это привело? Это привело к крушению германской валюты. Сейчас немецкая марка стоит ниже нашего советского рубля 1922 года, и положение немецкой валюты является все более и более катастрофическим.
Таким образом, политика эмиссии, разоряющая всю страну, является политикой печальной необходимости, но одновременно она создает льготы для отдельных отраслей немецкой промышленности.
Стиннес28 и те, кто с ним, требуют усиления эмиссии потому что немецкие промышленники продают свою продукцию за границей за товары, и когда курс марки падает, тогда они за товары получают в Германии в марках вдвое больше. В накладе остаются рабочие, реальная заработная плата которых, благодаря падению марки, сокращается и мы видим, что на почве эмиссионной программы Стиннеса и правительства рабочие массы идут к нам, коммунистам.
Увеличение эмиссии и у нас в России поведет к падению заработной платы рабочих, за сохранение которой мы боремся с таким трудом. Я говорил, что в последнее полугодие нам удалось в государственном бюджете вдвое реально увеличить фонд заработной платы с величайшим трудом, на основе политики сокращения эмиссии, на основе политики стабилизации рубля. Первой жертвой отказа от этой политики будет рабочий класс, как это имеет место в Германии, где рабочий класс несет на себе всю тяжесть эмиссии.
Но и с точки зрения ограждения интересов крестьянских низов, мы также на этот путь никак не можем становиться. Крестьянин, который продает хлеб и прочие излишки своего производства на бумажные деньги, в результате обесценения этих денег останется с носом. В результате наша финансовая система будет построена на ограблении рабочих и крестьян, тогда как наша задача строить свою политику таким образом, чтобы советское государство
Редкое издание
имело в руках некоторую возможность планирования и правильного распределения ресурсов, имело возможность вести правильную финансовую политику, чтобы вся тяжесть падала на имущие группы, и к этому мы идем. Вчера мы в Совнаркоме проводили проект о подоходно-имущественном налоге, который должен падать на нарастающую вокруг нас группу новой своеобразной буржуазии, на советскую административную и на трестовскую верхушку, на торговцев и проч., вот на что надо переносить тяжесть обложения. Мы, конечно, в дальнейшем должны идти от косвенного обложения к прямому. Это наша ясная дорога, по этому пути мы и пойдем; пока же мы вынуждены сохранить и косвенные налоги.
Позвольте теперь сделать еще несколько замечаний по поводу возражений т. Ларина. Т. Ларин сказал, что мы не выдвигаем никакой положительной программы. Это абсолютно неверно: мы выдвигаем совершенно точную программу: во-первых, сокращение расходов государства на основании сокращения излишнего бюрократического персонала и исключения излишних или третьестепенных расходов. Во-вторых, увеличение доходов от государственных предприятий и лесов. В-третьих, увеличение налоговых поступлений и, в-четвертых, развитие кредитных операций, которые, однако, в ближайшее время много не дадут. И это все должно проводиться под углом зрения стабилизации рубля. Но, конечно, мы были бы смешными педантами, если бы хотели эту стабилизацию рубля осуществить полностью. Однако, факт налицо, если мы имели в начале года каждый месяц колебания курса рубля в пределах 115–180%, то в последние месяцы мы имеем это колебание в пределах 5–25%.
Т. Ларин говорил здесь, что Наркомфин при стабилизации рубля совершенно ни при чем. Это, мол, зависит от погоды. Это веселая точка зрения, но в ней нет никакой правды. Весной этого года мы говорили: опыт 1921 г. показывает, что в течение трех месяцев в 1921 г., без наших усилий, наступила стабилизация. А наша задача в этом году заключается в том, чтобы эти три месяца развернуть в шесть месяцев. Из этого факта мы исходили. В прошлом году весь август, сентябрь и октябрь характеризовался стабилизацией рубля. Мы же к этому заявляли; попробуем эту стабилизацию – трехмесячную – развернуть в шестимесячную. И что же мы видим из текущего года: май, июнь, июль, август, сентябрь и даже октябрь характеризуются колебанием курса рубля в пределах 5–25%, тогда как в январе, феврале и марте это колебание равно было от 115 до 180%.
Наша дальнейшая задача, – в течение зимы не допускать, чтобы рубль, обесценивался в таких размерах, как в прошлом году, и далее работать в таком направлении, чтобы шестимесячную стабилизацию нынешнего года превратить в восьмимесячную в будущем году. Это будет огромным пособием для нашего хозяйства.
Я хотел бы отметить в заключение еще некоторые соображения т. Ларина. Т. Ларин сказал, что Наркомфин хочет жизнь приспособить к себе, но хотя в НКФине, как полагает т. Ларин, сидят очень жестокие люди, но все же легкомысленными их назвать нельзя. Мы говорим, что раз начинают играть роль деньги, то это значит, что огромную роль играет рынок. Кто расценивал наши деньги? Не мы, не Наркомфин, мы печатаем бумажки, а цену им дает рынок. И если я напечатаю на бумаге «один миллиард», дам тресту, – вот тебе один миллиард рублей, ты спасен, отстань от меня, то в действительности только рынок скажет, сколько стоит эта миллиардная бумажка. Мы строим свою политику на точнейшем изучении состояния рынка, на точнейшем изучении колебания курса золота, товарных цен. Для этого
Редкое издание
пришлось построить аппарат, который напоминает собою аппарат какого-нибудь штаба армии, ведающий оперативными сводками с донесениями и т. д. Мы точнейшим образом изучаем рынок, и говорим: рынок – это диктатор, а мы – представители социалистического организованного хозяйства, которое должно терпеть рядом с собою этот рынок, пока мы еще не можем его уничтожить. В том и заключается сущность НЭП, что рядом существуют организованное хозяйство и рынок, экономически, может быть, более мощный, чем мы, и наша задача – отстоять организованное хозяйство по отношению к этому рынку.
Позвольте теперь сказать несколько слов по поводу того, что говорил т. Новиков29. Он сказал: сначала хозяйственный план, потом программа эмиссии. Я с этим в корне не согласен. Что значит формула – сначала хозяйственный план? Это значит, что мы сначала говорим, что нам нужно такое-то количество стали, меди и т.д. И вот, когда мы выработаем такой хозяйственный план, тогда для его выполнения, для получения необходимых материалов, мы напечатаем столько-то денег. Мы можем, конечно, напечатать эти деньги, но получим ли мы действительно за эти деньги все то, что нам нужно? Никоим образом нет. Волей неволей нам надо перевернуть положение и сказать, давайте сначала подсчитаем точно те ресурсы, которые мы можем получить в текущем году в распоряжение государства.
Я утверждаю, что этот подсчет дает, примерно, такую картину: продналог даст около 300 миллионов рублей, денежные налоги, в лучшем случае, 200 милл. рублей. Это чрезвычайно крупная цифра, если сравнить её с прошлогодней программой, неизвестно, соберем ли мы ее. Доход от государственного транспорта, выручка почты и телеграфа, лесного хозяйства и т.д. могут дать около 200 милл. руб. Итого мы реально будем иметь около 700 милл. руб. Встает вопрос о дефиците. Мы были бы большими чудаками, если бы рассчитывали иметь бездефицитный бюджет в государстве, где повсюду дыры. Поэтому нам и пришлось в число наших доходов включить доход от эмиссий. И поэтому, когда мы говорим, что бюджет составит максимум миллиард, мы включаем сверх 700 милл., которые дадут налоги и прочие гос. доходы, еще 200–300 милл. поступлений от выпуска бумажных денег. Это и есть наш дефицит. Никакого другого у нас быть не может. В самом деле, ведь в буржуазном государстве дефицитом называется та часть бюджета, которая покрывается за счет займов, но в данный момент таких крупных займов за границей мы заключать не можем.
Таким образом, здесь игра слов со стороны наших противников. От выпуска бумажных денег можно получить не более 300 милл. р., если несколько больше, то зато меньше на налогах. Общий бюджет может быть сведен в один миллиард максимум. Тут я и говорю тов. Новикову – с этого надо начинать. Наш бюджет есть первый стержень, на котором мы, действительно, можем строить хозяйственный план, потому что мы можем довольно точно сказать, сколько мы можем из этого миллиарда уделить промышленности и в какой степени мы можем удовлетворить нужды транспорта и оплатить другие расходы. Размерами тех ресурсов, которыми обладает государство, чтобы оплатить промышленность, определится и программа нашей государственной промышленности.
Итак, надо исходить не из учета наших потребностей, возможностей и т.д., а надо исходить прежде всего из учета тех ресурсов, которые мы действительно имеем. Это очень
Редкое издание
неприятная точка зрения, очень жесткая точка зрения, но это есть единственно трезвая точка зрения, потому что более одного миллиарда мы не получим ни в коем случае. Мы смогли бы иметь больший бюджет только в том случае, если бы получили какой-нибудь подарок от американского дядюшки. На это мы рассчитывать не можем, мы строим свой бюджет без этого. Таким образом, сначала учет ресурсов, а потом хозяйственный план.
Тов. Куликов30 говорил, что налоги на крестьянство падают чрезмерно, что в его губернии крестьяне уплачивают 69 руб. натурналога и 2 р. 60 к. денежного налога. Обсуждать этот вопрос я не берусь. Я сам сторонник того, что нам нужно переходить, конечно, очень постепенно и осторожно, от натурального обложения к денежному. Что же касается денежных налогов, то цифры, приведенные т. Куликовым, как раз не подтверждают того, что крестьянство обложено ими чрезмерно. Данные, которые приводил т. Левин31, убедительно показывают, что промышленность тоже ни в коем случае не могла быть удушена нашими налогами. Не забывайте, что за первые 8 месяцев этого года всех налогов и косвенных, и прямых, и с государственной промышленности, и с частной промышленности было взыскано на 17 миллионов рублей! Тут об удушении говорить невозможно.
Позволю себе остановиться теперь на вопросе о внешней торговле. Тов. Ларин в качестве очень маленького, совершенно крохотного вывода из своей очень грозной и грандиозной речи пришел к следующему: поправить наше финансовое положение мы можем таким образом: во-первых, не разрешать, чтобы к нам приезжали люди, у которых на пальцах есть кольца, которые в жилетном кармане имеют золотые часы. Т. Ларин утверждает таким образом, что идет ввоз в больших размерах золота и драгоценностей в Россию. Никто этого подтвердить не может. Наоборот, из России вывозят золото и драгоценности, а отнюдь не ввозят.
Что касается предложения Ларина о сокращении поездок за границу, то в этом вопросе нужно еще разобраться. Мы знаем, что, действительно, представительство Наркомвнешторга в Берлине очень недоброжелательно относится к появлению там представителей отдельных трестов, отдельных торговых организаций и т.д. Но позвольте мне высказать такое мнение. Если мы разрешили теперь постановлением Совета Труда и Обороны представителям отдельных трестов, отдельных торговых организаций ездить за границу, для того, чтобы там развивать торговые дела, для того, чтобы Азнефть, действительно, могла бы продавать свою нефть, а не коптить ее до второго пришествия, если можно туда выехать представителю льноправления, чтобы ускорить продажу льна, то этим мы только облегчаем положение нашей промышленности. Мы должны сказать только, чтобы они поменьше тратили денег и делали дело, а не ездили зря, решение же, что за границей может проживать только один представитель НКВТ32, будет мерой, которая никаких реальных результатов не даст.
Позвольте мне в заключение сказать следующее. Я ни в какой степени не берусь утверждать, что в политике Наркомфина нет ошибок. Наоборот, возможно, что мы делаем
Редкое издание
грубейшие ошибки и будем их делать, потому что наш аппарат сейчас не силен, и поддержка, которую мы имеем и от советских и от партийных организаций, пока что, очень слаба. Мы готовы в течение известного времени подставлять свои спины под град упреков и обвинений, но, с другой стороны, позвольте откровенно, по-дружески сказать, что то, что происходит в нашей финансовой области, есть отражение в зеркале состояния всего нашего хозяйства, всего нашего советского аппарата. Говорят, что крестьянин разорен, с крестьянина нельзя брать налогов. Промышленность разорена, с промышленности нельзя брать налогов. Что касается эмиссии, то даже тов. Ларин признал, что нельзя до бесконечности пользоваться эмиссией. Как же мы будет существовать? Без денег? Без денег мы существовали довольно долго, с 1918 по 1920 год. Но те, которые высказываются против политики налогов, против политики сокращения эмиссии, живут еще пережитками эпохи, которая осталась позади нас; мы теперь вошли в другую полосу и без денег мы жить не можем. Так вы скажите - с кого брать налоги? С крестьян, брать или не брать? С промышленности, брать или не брать? Печатать деньги или нет?
Нужно применять все эти способы, а не один из них; мы и делаем и то, и другое, и третье. Мы берем налоги с крестьян, не допуская их чрезмерной тяжести; мы говорим, что и промышленность должна платить кое-что, но в виду того, что ни крестьяне, ни промышленность не могут оплатить все расходы государства полностью, мы пользуемся аппаратом эмиссии, стремясь не выпускать бумажных денег так много, чтобы происходило их обесценение.
Мы жили до сих пор слишком широко, не учитывая наших ресурсов. Но почему мы могли так жить до сих пор? Потому что у нас были старые запасы. Теперь их почти нет. Мы, вопреки всему, говорим: «Товарищи, мы обращаем внимание на то, что мы не можем продолжать так жить, как жили до сих пор».
Можно сравнить положение Наркомфина с положением шофера, который ведет автомобиль через совершенно дырявый мост. В этот автомобиль влезло 10 человек. Но для того, чтобы проехать через этот мост и чтобы он не провалился, а остался целым, нужно, чтобы вылезло 6 человек, а 4 могут остаться; когда же мы переедем через мост, мы может опять ехать вместе. Не угодно ли кое-кому вылезать. Конечно, все отвечают, не хотим. Тогда все полетите в пропасть, автомобиль наверняка погибнет, дальнейшее путешествие невозможно.
Итак, нам нужна воля, решимость и твердость. Проверьте наши расчеты. Если они неверны, то уточните их, но подтвердите, что мы должны твердо держаться того направления нашей политики, которое и усвоили теперь.
Список литературы Г.Я. Сокольников. Борьба с финансовым развалом
- Генис В.Л. Григорий Яковлевич Сокольников // Вопросы истории. 1988. № 12. С. 59–86.
- Деятели СССР и революционного движения России: энц. словарь Гранат. Репр. изд. М.: Сов. энцикл., 1989. 831 с.
- Политические деятели России, 1917: биогр. словарь. М.: Большая Рос. энцикл., 1993. 432 с.
- Сокольников Г. Борьба с финансовым развалом: (доклад НКФ на IV сессии ВЦИК в октябре 1922 года). М.: Н.К.Ф. Фин.-эконом. бюро, 1922. 34 с.
- Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923-1991 гг.: Историко-биогр. Справочник / сост . В.И. Ивкин. М.: Росспэн, 1999. 637 с.
- Шаповалова Л. Сокольников // Политические партии России, конец XIX - первая треть XX века: энц. М.: Росспэн, 1996. 800 с.