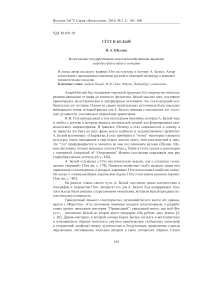Гёте и Белый
Автор: Шулова Янина Абрамовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье автор исследует влияние Гёте на эстетику и поэтику А. Белого. Автор сопоставляет произведения классиков русской и немецкой литератур и выявляет типологическое сходство.
Андрей белый, и. в. гете, фауст, петербург, символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/146121876
IDR: 146121876 | УДК: 82.091-95
Текст научной статьи Гёте и Белый
Андрей Белый был человеком огромной эрудиции. Его творчество питалось реминисценциями от мифа до газетного фельетона. Белый мыслил ими, постоянно ориентируясь на исторические и литературные источники, что стало ведущей особенностью его поэтики. Одним из самых значительных источников было наследие веймарского гения, который явился для А. Белого начиная с юношеских лет эталоном духовности, постоянным творческим ориентиром.
И. В. Гете принадлежал к тем культурным явлениям, которые А. Белый знал и любил с детства и которые явились питательной почвой для формирования символистского мировоззрения. В трактате «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» А. Белый вспоминает: «Подрастая, я стал прибирать к “этому” некоторые элементы культуры, извне западавшие в мир немых жестов моих; пяти-шестилетний я знал, что “это” преформируется и членится во мне под влиянием музыки (Шопен, Шуман, Бетховен), чтения немецких стихов (Уланд, Гейне и Гете), сказок и разговоров с горничной Аннушкой об “Откровении” Иоанна (последняя передавала мне ряд старообрядческих легенд)» [6, с. 426].
А. Белый отзывался о Гёте исключительно высоко, как о создателе «гениальных творений» [Там же, с. 178]. Писатель-символист особо выделял среди них лирические стихотворения, в которых дарование Гёте воплотилась наиболее полно. Он писал о «гениальнейшем лирическом вздохе Гёте (этом самом великом лирике» [Там же, с. 180].
На разных этапах своего пути А. Белый постоянно искал соответствия в биографии и творчестве Гёте: авторитет его для А. Белого был непререкаем. Аналоги всегда были связаны с переломными моментами, которым Белый придавал исключительную важность.
Грандиозный замысел «Антихриста», мучивший Белого много лет, сравнивается с «Фаустом». «Год окончания гимназии видится плодотворным; я разрабатывал проект написания мистерии “Пришедший”, увиденный мною, как мой Фауст», – вспоминал Белый во второй книге мемуаров «На рубеже двух веков» [4, с. 40]. Драма-мистерия, в которой юноша Борис Бугаев пытался в ветхозаветных и новозаветных образах воплотить смутное предчувствие глобальных катастроф и потрясений, конфликт между духовностью и бездуховным, нравственно слепым окружением, осознавалась молодым автором в свете гетеанских образов. Самое значительное произведение Гёте «Фауст», ставшее подвигом его жизни и итогом раздумий о высоком предназначении человека, перекликалось в сознании А. Белого с мистерией о кризисе сознания человека – свидетеля всемирно-исторического кризиса, переживаемого как «конец культуры, Европы иль мира» [Там же]. Приходом антихриста под маской мессии. О том, какое громадное значение придавал Белый своему нереализованному замыслу, говорит письмо его к Э. К. Метнеру, опубликованное Л. К. Долгополовым в «Дополнениях» к переизданию «Петербурга» в 1981 году. Примечательно, что писатель вновь проводит аналогию с «Фаустом»: «…пере-до мной встает моя 3-ья часть “Трилогии” , “Трилогия: Антихрист” (драматическая: нечто, меня преследующее всю мою жизнь с отрочества, мой “Humptwerk”…» [5, с. 512]. Приступив к работе над серией автобиографических романов «Моя жизнь», Белый, по собственному признанию, мечтал о «форме, где “Жизнь Давида Копперфильда” взята по “Вильгельму Мейстеру”, а этот последний пересажен в события жизни душевной…» [Там же, с. 519]. Новый художественный эксперимент состоял в перенесении истории нравственного возмужания героя, постижения им разных сторон жизни, людей в крайне ограниченную сферу – человеческую психику. Интроспекция, наметившаяся в «Петербурге» и развитая в «Котике Летаеве», создавалась А. Белым при прямой ориентации на Гёте. Его Вильгельм Мейстер, вырастающий в странствиях в полноценную личность, был источником подражания для А. Белого при изображении духовного роста своего героя, изображенного интроспективно.
Воздействие Гёте ощущается в лирике А. Белого: образ кантианца-искусителя обретает черты Мефистофеля в цикле «Философическая грусть» в сборнике «Урна».
Персонажи «Фауста» дали Белому материал для мифологизации в «Петербурге» и «Москве». Аполлон Аполлонович Аблеухов – всесильный чиновник-бюрократ очень высокого ранга и одновременно дьявол, Мефистофель, что подчеркивается портретным сходством. У сенатора в ряде эпизодов романа – профиль Мефистофеля с характерным выражением его ужасного лица: «Лысая голова поднялась на камин с сардоническим, с усмехнувшимся ртом и с прищуренными глазами…» [Там же, с. 351]; «…под крестом явственный горельеф, высекающий огромную голову, исподлобья сверлящую вас пустотою зрачков; демонический, мефистофельский рот!» [Там же, с. 333].
В одном из главных героев «Москвы», Мандро, есть также многое от Мефистофеля. Московский делец - инфернальный образ (Сатана), он циничен, признает лишь власть денег, за обильным обедом и возлияниями он пытается нейтрализовать Митю с помощью своей дочери, чтобы получить о профессоре Коробкине и его открытии, имеющем стратегическое значение, необходимую информацию.
А в редакции пьесы «Москва», предназначенной для постановки в театре Вл.Э. Мейерхольда [3], образы «Фауста» (в данном случае оперы Ш. Гуно) используются для создания злой карикатуры, гротеска, пародии. Картина «У Задопятовых» завершается музыкой оперного эпизода «Gretchen am Spinnsad» (Маргарита в саду) [9, с. 404].
Обращение Белого к образам величайшего творения Гёте было тенденцией в развитии искусства конца XIX – начала XX вв. М. А. Врубеля, художника, чья судьба и творчество были очень близки русским символистам А. А. Блоку и Андрею Белому, вдохновляли персонажи «Фауста» на создание декоративных панно «Маргарита», «Полет Фауста и Мефистофеля», полотен «Фауст и Маргарита в саду». В них живописец темперамента красочно интерпретировал в духе русского символизма ряд сцен шедевра Гёте.
Индивидуальная писательская манера Белого (склонность к гротеску, шаржу, карикатуре) сформировалась не без учета художественных принципов Гёте. «Я бы даже сказал, дождись я той поры, когда мир по-настоящему открылся мне, я бы воссоздал его карикатурно», - приводит И. П. Эккерман высказывание Гёте [10, с. 190].
Совпадения поразительны: речь идёт о том, что самые главные, глубинные, скрытые закономерности могут адекватно художественно воплотиться лишь в условных формах – карикатуре, гротеске, шарже.
Они постоянно используются А. Белым в «Петербурге», его лучшем произведении, одноименных инсценировках и киносценарии, «Москве» для изображения духовных драм русских людей эпохи первой русской революции, изживающей себя бюрократической государственной машины, уродства и пошлости быта. А. Белый, как и другие символисты (И. Ф. Анненский, Д. С. Мережковский, А. А. Блок), широко разрабатывал цветовую символику. И здесь он обращался к трудам великого писателя. «Есть у Гете в теории красок великолепный отрывок, трактующий о моральном восприятии краски, где цвет превращается в символ морального мира; и палитра у поэта, и цвет его зорь, освещенье ландшафтов его дает нам бесконечное множество черточек, выясняющих его воззрение на мир…» – указывал Белый на родство своих взглядов с теориями Гёте-естествоиспытателя [1, с. 120].
Пантеизм Гёте, его любовь к природе (любовь поэта и учёного) чрезвычайно импонировали А. Белому. В образах природы, утверждал он, художнику видятся образы Вечности, что перекликается с афоризмом Гёте, цитируемом в вышеупомянутом трактате А. Белого: «Красота есть манифестация тайных знаков природы, которые без этих проявлений оставались бы от нас навсегда сокрытыми» [6, с. 23]. Природа для Гёте была эталоном красоты, гармонии и совершенства, подражание которому в искусстве даёт подлинные шедевры, а познание её тайн и стремление истолковать их означает «подлинное влечение к искусству» [Там же].
-
А. Белый полагал, что творчество – процесс интуитивный, спонтанный и иррациональный, своего рода священное безумие. Излагая свою позицию в статье «Формы искусства», А. Белый в качестве аргумента ссылался на Гёте, отвергавшего «рассудочные произведения искусства» [Там же, с. 92]. «В рассудочных произведениях искусства, – писал Гёте, – чувствуешь намерение и расстраиваешься» [Там же].
В родстве с природой, воспроизведении ее образов в художественном творчестве («всё приходящее – только подобие» [Там же, с. 217]), указывал Белый, лежит символизм Гёте. А. Белый считал, что символизм присущ всякому искусству, творимому «классиком», «романтиком» и «реалистом» [Там же, с. 258]. Более того, А. Белый настаивал, что веймарский гений – предтеча символизма как литературной школы, воскресившей «культ немецких романтиков и Гёте» [Там же, с. 338]. Заслуга представителей этой школы также, по А. Белому, в том, что «они осознали до конца, что искусство насквозь символично, а не в известном смысле, и что эстетика единственно опирается на символизм» [Там же, с. 340].
Даже в учении Вл. Соловьева о Вечной Женственности А. Белый видел своеобразную интерпретацию образа Гретхен, а в «Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке» А. Белый истолковывает творческий путь поэта от «Стихов о Прекрасной Даме» до «Скифов» как приобщение к трагедии Гретхен. Муза Блока представлялась А. Белому «Mater Gloriosa» [1, с. 116]. «Таков образ Музы у Блока; кончается Фауст им; им открывается Блок», – писал А. Белый [Там же].
Он не только испытал воздействие Гёте, но и выступил одним из исследователей его философских взглядов в книге «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современников». Белый полагал, что Гёте, как ни один мыслитель прошлого, близок «рельефу души» [7] людей 10-х годов прошлого столетия, живущих «под знаком эпохального кризиса» [8, л. 1]. Будучи увлеченным антропософией, Белый называл Гёте предтечей Рудольфа Штейнера.
-
А. Белый настаивал на том, что Гёте также является предшественником Ницше, который заимствовал у Гёте термин «сверхчеловек» [6, с. 181] и в своем трактате «Так говорит Заратустра» стал законным преемником гётевской лирики [Там же, с. 180].
В эстетике А. Белого важное место занимала теория ценности неокантианца Риккерта. «Теоретический взгляд на ценность зависит от умения пережить нечто ценное» [Там же, с. 19], – провозглашал А. Белый в статье «Проблемы культуры». А. Белый утверждал, что этим умением в высшей степени владел Гёте: «…умение пережить – это почто уже магия, почти йога; теория здесь оказывается маской, за которой кроется мудрость посвященного глубиной этой жизни: то, что советует Риккерт, практически исполняли законодатели религии, творцы культуры, греческие философы до сократовского периода, как исполнил позднее этот завет Гёте» [Там же, с. 119].
В трактате «Кризис культуры» А. Белый, выступая поклонником Августина, писал, что его учение, которое содержало элементы манихейства, явилось философской основой образа Фауста. «Августин есть неузнанный пламень всей светской культуры; и Фауст рождается в нём» [Там же, с. 270]. Последнего А. Белый позиционировал как «манихейского учителя» [Там же]. Таким образом, был выявлен генезис образа Фауста, его социокультурные корни.
Соприкосновения творчества Гёте и Белого, подобно взмаху гигантского маятника, помогают обнаружить преемственность между двумя жившими в разные эпохи художниками, глубже и полнее выявить истоки их поэтики и философских взглядов А. Белого, позволяют по-новому взглянуть на веймарского гения как на предтечу сложнейших и противоречивых явлений мирового литературного процесса конца XIX – начала XX века.
Список литературы Гёте и Белый
- Белый А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке//Эпопея. 1922. № 8. С. 100-130.
- Белый А. Москва. М.: Советская Россия, 1989. 769 с.
- Белый А. «Москва». Театральная переработка одноименного романа для театра Мейерхольда пояснительной запиской автора и чертежом постановки драмы Мейерхольдом. б-д (1925-1929). РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хрн 35. 216 л.
- Белый А. На рубеже двух столетий. М.: Земля и фабрика, 1930. 495 с.
- Белый А. Петербург. СПб.: Наука, 2004. 696 с.
- Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Наука, 1994. 524 с.
- Белый А. Современная молодежь//Киевская мысль. 1909. 18 июня.
- Браун Я. Под знаком эпохального кризиса (творчество А. Белого). 1924. Машинопись и выписки рукой неустановленного лица. РГАЛИ. Ф. 891. Оп. 1. Ед. хр. 59.
- Шулова Я. А. «Петербург» и «Москва» А. Белого (некоторые вопросы генезиса поэтики). СПб.: Изд-во СПбПУ, 2009. 540 с.
- Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.: Искусство, 1986. 240 с.