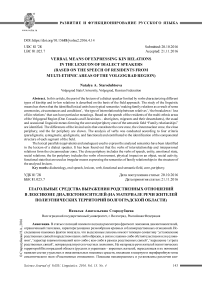Глагольные средства выражения родственных отношений в лексиконе диалектоносителей (на материале речи жителей полиэтнических территорий Волгоградской области)
Автор: Стародубцева Наталья Анатольевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье с позиций полевого подхода рассмотрен фрагмент лексикона диалектоносителей, ограниченный глаголами, характеризующими разнообразие кровных и близкородственных отношений. Исследование языковых фактов показало, что выделенные лексемы имеют типовую семантику ‘установление родственных связей посредством каких-либо обрядов, в связи с какими-либо обстоятельствами или условиями’, ‘характер взаимоотношений кого-либо с кем-либо в рамках родственных связей’, ‘нарушение / утрата родственных связей’, которая реализуется в частных значениях. На материале речи жителей полиэтнических территорий Волгоградской области (русских и украинцев - коренных жителей, переселенцев и их потомков) выявлен состав узуальных и окказиональных языковых средств, входящих в ядерную и периферийную зоны семантического поля «Родственные отношения». Показана неоднородность и установлены различия единиц, отнесенных к ядру, приядерной зоне, ближней и дальней периферии. Анализ семантики глаголов проводился по четырем критериям (парадигматическому, синтагматическому, эпидигматическому и функциональному) и позволил определить компонентный состав каждого сегмента поля. В лексиконе диалектоносителей выявлены лексические параллели - полные / неполные эквиваленты и аналоги, используемые для выражения анализируемой семантики в речи диалектоносителей. Обнаружено, что к ядру и приядерной зоне относятся глаголы взаимоотношения и межличностных отношений. Ближняя периферия включает глаголы речевой деятельности, бытия, эмоционального состояния, социальных отношений, зону дальней периферии образуют единицы семантических групп движения, физического воздействия на объект, социальной деятельности, функционального состояния, выступающие неспециализированными и нерегулярными средствами выражения семантики ‘родственные отношения’ в структуре анализируемого лексикона.
Диалектология, устная речь, лексикон, глагол, функционально-семантическое поле, ядро, периферия
Короткий адрес: https://sciup.org/14970301
IDR: 14970301 | УДК: 81’28 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.4.14
Текст научной статьи Глагольные средства выражения родственных отношений в лексиконе диалектоносителей (на материале речи жителей полиэтнических территорий Волгоградской области)
DOI:
«Устный язык слишком часто ускользает от исследователя», – замечал Ш. Балли, говоря о необычайной трудности и сложности рассмотрения живой речи, изучение которой в то же время «обновило и будет и впредь обновлять лингвистику» [1, с. 94]. Это подчеркивает актуальность обращения к особенностям функционирования обиходно-разговорной речи жителей конкретной местности, имеющей региональное своеобразие, обусловленное влиянием традиционного диалекта, объективных социально- и культурно-исторических условий, которые оказывают воздействие на формирование мировосприятия (ценностных ориентиров) личности.
Материалом для изучения послужили записи спонтанных бесед с сельскими жителями и прямого интервьюирования собеседников методом открытого вопросника, сделанные во время полевых диалектологических экспедиций с 2009 по 2015 г. в Иловлинском (с. Большая Ивановка, х. Озерки), Киквид-зенском (ст-ца Преображенская, села Завязка, Мачеха, Семеновка, хутора Дубровский, Калачевский, Калиновский), Урюпинском (ст-ца Тепикинская, х. Дьяконовский) районов Волгоградской области. Данные территории отличаются полиэтничностью и квалифицируются как пункты смешанного проживания представителей близкородственных культур – русских и украинцев (см. об этом: [5; 6; 11]), а в лингвистическом отношении характеризуются соединением различных языковых пластов (см. об этом: [2–4]).
Расшифрованные тексты показали, что центральной темой в них выступает человек и его связи с окружающим миром. Важными с исследовательской точки зрения являются описания родственных взаимоотношений (см., например: [7; 8]), поскольку представления о семье, браке формируют картину мира индивида, позволяют раскрыть особенности восприятия действительности и являются важным фактором в определении мировидения этноса или группы этносов.
Целесообразным представляется изучение лексикона диалектоносителей с позиций полевого подхода (подробнее об этом см.: [10]). Такой анализ позволил, наряду с именной лексикой (см.: [7]), выделить обширную группу глаголов (а также глагольно-именных сочетаний), используемых для характеристики брачных и родственных связей.
Глагольные лексемы обнаруживают многообразие и специфику реализации понятия «родственные отношения» и могут быть квалифицированы как ядерные и периферийные средства выражения названной семантики.
Представленные в анализируемом материале глаголы имеют типовую семантику ‘установление родственных связей посредством каких-либо обрядов, в связи с какими-либо обстоятельствами или условиями’, ‘характер взаимоотношений кого-либо с кем-либо в рамках родственных связей’, ‘нарушение / утрата родственных связей’ и отражают способы ведения хозяйства и организацию семейного быта, иерархию и особенности взаимоотноше- ний в семье. Регулярными и специализированными средствами репрезентации типовой семантики выступают прежде всего глаголы взаимоотношения и межличностных отношений, а также глаголы иных лексико-семантических групп (ЛСГ): контекстуальные значения этих глагольных единиц позволяют включить их в структуру семантического поля «Родственные отношения». При этом обнаруживается взаимопроникновение различных систем внутри одного языка, которое проявляется в наличии многообразных лексических параллелей (аналогов, вариантов, дублетов, эквивалентов) [7; 9].
Типовая семантика ‘установление родственных связей посредством каких-либо обрядов, в связи с какими-либо обстоятельствами или условиями’ может быть представлена частными значениями:
– ‘начальный период установления родственных связей’;
– ‘вступление в родственную связь посредством заключения брака (в том числе совершения обряда венчания)’;
– ‘установление духовного родства посредством обряда крещения’;
– ‘приведение к родственному взаимодействию, вызванное какими-либо объективными обстоятельствами’.
Первое из указанных значений связано с моментом знакомства и периодом добрачных отношений будущих супругов, а также их родственников. В лексиконе диалектоносителей отмечены лексемы положительного эмоционально-оценочного отношения ( по ) нравиться , дружить , продружить . Нравиться используется в речи информантов в значении «относиться к кому-либо с симпатией, вызывая у кого-либо, обычно у лиц противоположного пола, интерес, влечение к себе» (ТСРГ, с. 595): Он пришол с армии, искал в июни нивесту, а я токa приехала сa Страхава. Да, вот, и панравилася ему, а он – мне. Так с армии пришoл чистинький, пaцтрелинный, аккуратный, вот панравился – и свадьба (З.М. Рогожина, 1928 г. р., с. Завязка); Ну, он [будущий муж] гаварить: «А чё мне дяфча-та, если ты мне нравишси!» (Е.С. Машлы-кина, 1936 г. р., ст-ца Тепикинская).
Глагол дружить используется диалек-тоносителями как синоним лексемы встречаться в значении «поддерживать близкие от- ношения с кем-либо». Так, жительница с. Мачеха Т.И. Сахнова, 1942 г. р., отвечая на вопрос о том, как оказалась в здешних краях, замечает: Чо? Как папали? Чиво-чиво – любоў! Падружылась, с Ванькай падружы-лась. Он атсюдава был; украинка А.Е. Сафронова из ст-цы Тепикинской, 1941 г. р., вспоминает особенности общения с будущим мужем: Я привыкла к этаму русскаму языку, пака мы с ним дружыли палтара года са сваим мужем. Он русский, а я украинка. С такой семантикой зафиксирован и глагол продружить: Да, и вот три γóды мы с ним продружыли, ф симидисатавом замуш вышла, третива марта (А.П. Старухина, 1946 г. р., с. Мачеха). В качестве неполного эквивалента глагола встречаться жители указанных пунктов употребляют также просторечный глагол любиться, то есть «любить друг друга, находиться в любовных отношениях» (БАС, т. 6, с. 176): Так мы ж любились-то на ферме, у нас тогда любовь какая была! [Какая?] Работали на ферме, там и все, и поженились и все, и ни дня не встречались (А.В. Александрова, 1936 г. р., х. Калиновский). Как видно из контекста, диалек-тоноситель разграничивает значения двух глагольных лексем – любиться и встречаться: последняя подразумевает свидания и встречи на досуге, в свободное время, чего молодежь тяжелого послевоенного времени была практически лишена.
В речи украинских жителей для обозначения начального этапа установления родственных связей используется глагол внешнего проявления отношения ухлёстывать , представленный в словарях со стилистической пометой «просторечное» и толкуемый как «ухаживать, волочиться за кем-либо» (БАС, т. 16, с. 1110): Ну и так вин [будущий муж] ухлыстыўал, ухлыстыўал, ухлыстыўал за мною. Я, конэшно, нэ дужэ хотила, но так пришлося (Е.А. Рыжих, 1929 г. р., с. Мачеха). Лексический повтор глагола ухлёстывать указывает в данном случае на интенсивность действия.
Синонимом рассмотренным языковым единицам можно считать глагол движения (с)ходить, выражающий последовательность действий лиц, устанавливающих родственное взаимодействие: Пришел я в пятьдесят чет- вертом γоду с армии... Она через хату... Раз сходил, други, третий, четвертый, пятый, десятый. Так и пошло (С. Бароменский, 1931 г. р., с. Мачеха).
К группе глаголов, характеризующих начальную стадию семейных, родственных отношений, могут быть отнесены и лексемы, используемые при описании традиций сватовства: глаголы ЛСГ контакта свататься , договариваться и др., а также контекстуально сближающиеся с ними глаголы речевой деятельности беседовать , говорить , разговаривать и др.: Ну как ани [свадьбы] раньшы прахадили?! Эта, паехали сваты, дагава-рились, какое число свадьба, на какой день, вот и фсё (З.М. Рогожина, 1928 г. р., с. Завязка); Спирва я пошол сам паγаварил, ну патом радителей приγласил. Пришли, приехали. Ну, да этава мы, канешна, даγава-рились . Ну, так. Сасватали (В.А. Макаров, 1928 г. р., х. Дьяконовский); Да сватаца при-хадили, свадинки были... Тагда ужэ пажылые прихадили на свадинки, ево радня и наша рад-ня вот, ани там биседавали, разгаваривали (А.В. Александрова, 1936 г. р., х. Калиновский).
Наиболее обширную группу языковых средств составляют единицы, характеризующие вступление в родственную связь посредством заключения брака (в том числе совершения обряда венчания). В исследуемом материале зафиксированы глаголы (по)женить-ся, (за)регистрироваться, расписываться, венчаться, глагольно-именные сочетания играть / гулять (свадьбу), а также неполный эквивалент сходиться: Вот када γуляли свадьбу, то γатовили чё, паштет γатови-ли (А.Я. Артеменко, 1931 г. р., с. Большая Ивановка); Ну, в этат день пажынились, расписываца – мы расписались... Цэркви не былó. Венчаца – не венчались (В.А. Макаров, 1928 г. р., х. Дьяконовский); Мы вмести. Он мне дядя. Риγыстрирывались вмести... Заявление подали, пришли, расписались и ушли (П.П. Бароменская, 1931 г. р., с. Мачеха); Винчалси да армии... Супруга – Валентина Стяпанавна... Мы ф пидисят дявятам γаду расписались (В.А. Обухов, 1941 г. р., ст-ца Тепикинская); Посли вайны, в шыстидесятам ани приехали, я с ним сашлась (А.Н. Додонова, 1926 г. р., ст-ца Те-пикинская). Отмечено использование лексем, дифференцирующих вступление в брачный союз по гендерному признаку, – глаголов взаимосвязи жениться и контакта выходить (замуж): Я раньшы жыл на Типикинскай станицы. Там... Ну, патом здесь, жынился каγда (В.А. Макаров, 1928 г. р., х. Дьяконовский); А большы вoт, каγда мамка выхадила замуш – з γалубями (А.Я. Артеменко, 1931 г. р., с. Большая Ивановка). Представлены также окказиональные сочетания уйти замуж, забрать замуж, отражающие покидание девушкой родного дома после замужества: А потом уже мать сама осталась, я замуж ушла (А.И. Зубкова, 1942 г. р., с. Се-меновка); А потом матрю... туда забрали. Ну как замуж што ль (М.Д. Баранова, 1923 г. р., ст-ца Тепикинская).
Частотны в речи информантов и случаи использования глаголов приобретения и помещения с наречиями или терминами свойства при описании установления родственных отношений по линии «родители мужа / жены – муж / жена»: взять сноху , взять зятем , попасть в зятья : Семья была, восьмую сноху взяли, своя семья – семь душ, да восьмую сноху привезли (А.В. Александрова, 1936 г. р., х. Калиновский); Он тоже сирота был. Ему притулица негде былó, как раз тиф хадил, и памерли мать, и отец, и бап-ка, фсе папамерли, а он остался один. И сироту мы и взяли в зятья (О.М. Бочарова, 1901 г. р., х. Калачевский); Мама мая, Дуня её была звать, Евдакия Назаравна, ана значит за неё зятем взяли; А дочки вон, к адной в зятья папал, и вот нас народили (Е.Т. Ключ-кина, 1924 г. р., ст-ца Тепикинская).
Описывают диалектоносители и традиции выбора будущего супруга в дореволюционной России: А мать – ани ш казачие, их сюда пириселяли. Мая прабабушка – ана чистакровная данская казачка. И тада же аддавали замуш: ребятам завязывали γла-за, девок в рят ставили – и хто каво пай-маить, да. И её паймал Фёдор, он крипас-ной был. А ана – казачка, ани не были кре-пасными, казáки (А.В. Александрова, 1936 г. р., х. Калиновский). Отмечается и окказиональное употребление глагола передачи объекта отдавать, когда женщина подчеркивает значимость имущественных взаимоотношений при вступлении в брак: Замуж адда- вать нечим былó (О.М. Бочарова, 1901 г. р., х. Калачевский).
Семантика ‘установление духовного родства посредством обряда крещения’ эксплицируется в речи глаголом крестить и донским диалектизмом кстить (СДГВО, вып. 3, с. 197). При этом диалектоносители могут недифференцированно использовать в речи обе лексемы, например: Да, я сваих кристил. [Тайно от советской власти?] А, не-е! Ни тайна. Кристить разришалась. Тада ни раз-ришалась, шоб министрам, вроди, кстить... А так, пажалуста! Ну, кристили как: павизуть в цэркафь, а там, я ня знаю. Радителей ни пускали туда, а как, кум с кумой, каторых выбрали, вот ани занясуть там в цэркву и фсё, γаварят – пирикряс-тили. А сам када кстился – я ни помню, малинький был (В.А. Макаров, 1928 г. р., х. Дьяконовский); А цэркоў была ў Киквид-зи. И ўот двенацать килóметроў насили туды кстить дитей. Кристили (М.Т. Авилова, 1928 г. р., х. Дьяконовский).
Появление родственных отношений в силу объективных обстоятельств характеризует процесс усыновления / удочерения кого-либо кем-либо после смерти одного / обоих родителей. В данном случае зафиксировано окказиональное употребление глагольно-именного сочетания взять сироту вместо узуального глагола усыновить : А он их обех пострелял. А сирота остался, шести месяцев мальчишка остался. И у нас уж тут мало стало у матери, она его взяла, и мы его и воспитывали (О.М. Бочарова, 1901 г. р., х. Калачевский).
Типовая семантика ‘характер взаимоотношений кого-либо с кем-либо в рамках родственных связей’ может быть конкретизирована частными значениями:
– ‘иерархия семейных отношений’;
– ‘специфика эмоциональных отношений между членами семьи, родственниками’.
Указанные значения выражены в речи сельских жителей прежде всего посредством глаголов эмоционально-оценочного отношения, а также лексем некоторых других групп.
Благодаря воспоминаниям диалектоно-сителей можно получить представление о семейном укладе донских казаков и украинцев. Так, глаголы принуждения распоряжаться и речевого воздействия командовать указывают на существующую в семье иерархию отношений по линии «невестка – свекровь»: Патом бабушка рассказывала, как ани чи-тыри снахи у печке адной и свикрофь, вот, свикрофь распоряжаеца, чё каму делать... У ниго была эта жана из другова сила. Ну, а када взяли, ана тожэ тут у печки, там свякруха, свякруха ўсем камандывала тада (Д.В. Иванова, 1938 г. р., с. Большая Ивановка); языковые единицы с семантикой принуждения приказывать , управления не давать ( самостоятельности ) отражают систему отношений по линии «родители – дети»: Ну ни знаю, какие слава. Ну приказывали, кагда молодым, приказывали: «Живите, живите!» (З.М. Рогожина, 1928 г. р., с. Завязка); Ну в то время ещё такие абряды были, што атец с матерью... самастаятельнасти не давали нам, маладёжи (М.М. Самоходкин, 1935 г. р., х. Дубровский).
В своих рассказах деревенские жители часто характеризуют эталон внутрисемейных отношений, акцентируя внимание на внутренних качествах человека как залоге мира и покоя в семье. Специфика отношений между членами семьи, родственниками выражается в лексиконе диалектоносителей в основном глаголами эмоционально-оценочного отношения, а также лексемами внешнего проявления отношения, эмоционального состояния, физического воздействия на объект, речевой деятельности, социальных отношений.
Чаще всего используются глаголы положительного эмоционально-оценочного отношения (любить, интересоваться). Они характеризуют взаимоотношения членов семьи по линии «бабушки / дедушки – внуки»: Aни кажут: «Як це любить внучат – там чужа кровь». Ну я цэ можно их нэ любить, ани ш малэньки?! (В.Д. Магомедова, 1935 г. р., с. Мачеха); Я рaсла с бабушкaй бальшын-ство: мама фсигда на работи, а я с свик-ровью с маминаю, с атцовaй с матирью я вырасла, aна миня звала, фсё-фсё рассказывала, я интирисaвалася фсем, чё aна менэ рассказываит (Д.В. Иванова, 1938 г. р., с. Большая Ивановка). Отмечено также окказиональное использование глагола вращаться, приобретающего в речи диалектоно-сителя значение речевого общения: Тош хах-лы, но вот, та бабушка, но я с ней меньшэ в децтве вращалася, я большэ с этай (Д.В. Иванова, 1938 г. р., с. Большая Ивановка).
Связи по линии «родители – дети» обозначаются языковыми единицами с семантикой внешнего проявления отношения, приведения субъекта в эмоциональное состояние, речевого воздействия, подчинения: Ну благо-славляют с иконай кагда. Я благославляла сынавей (З.М. Рогожина, 1928 г. р., с. Завязка); Дитишечки у нас харошые. Ниплахие... Ни разу ничё миня ни абидели (П.П. Баро-менская, 1931 г. р., с. Мачеха); Она всем уго-жала, всем зятьям (Е.В. Сидорова, 1939 г. р., с. Завязка). Разговорный глагол ладить «относиться к кому-либо дружески, быть с кем-либо в полном согласии, мире» (ТСРГ, с. 594) зафиксирован в сочетании с отрицательной частицей при характеристике сложных взаимоотношений двух поколений: Ни паладил он [муж] с атцом, канешна (А.Н. Додонова, 1926 г. р., ст-ца Тепикинская).
Отношения по линии «свекровь – невестка» репрезентируются в исследуемом материале глаголами эмоционального и функционального состояния бояться , ( не ) хотеть . Например, М.И. Корчакина из с. Семеновка, 1933 г. р., вспоминая свою свекровь, использует фразеологизм бояться как огня , подчеркивая интенсивность вызываемых чувств: Но свекрофь мая була ох жестока, она була казачка. Я её баялась як аγня, пока она нэ умэрла ; Р.П. Самоходкина из х. Дубровский, 1941 г. р., рассказывая о неприятии свекровью молодой невестки, использует сопоставительную конструкцию до того..., что и интонационно-выразительные средства: Ну в общем свякры миня ни хитела... Да таво ни хатела, што тако-о-й канфликт был, такое фс-ё-ё ни харошые ...
Взаимоотношения мужа и жены часто эксплицируются единицами с семантикой отрицательного воздействия на объект (замучить, промучить): Ну ево [мужа]... Замучил. Да уже пятьдесят четыре года промучил (П.П. Бароменская, 1931 г. р., с. Мачеха); речевого общения (ругаться, ссо- риться, прост. лаяться): И мы разруγали-ся с мужыком, и яво атаслали на двацать или трицать киламетраф в лес (Н.И. Пономарева, 1929 г. р., с. Мачеха); Ну, если ссора яка-нибудь произойдэ или лаюца, то обязательно она [мать] по-своему, а вин [отец] по-своему (В.Д. Магомедова, 1935 г. р., с. Мачеха); речевого воздействия (ругать): Муш миня таγда руγает (А.Е. Сафронова, 1941 г. р., ст-ца Тепикинская).
В рассказах о семье и родственном взаимодействии репрезентируется аксиологическая картина мира жителей края. В сфере межличностных отношений объектом ностальгии является утрата семейных ценностей, разрушение традиционных устоев. Чаще всего в зоне осмысления оказываются нормы поведения (прежде всего поведения женщин). Например, житель с. Завязка С.М. Лычагин, 1925 г. р., отмечает: Щас нарот какой-та друγой пашол... А када-та ж была фсеγда так: жэна баица мужа, какой бы он ни был, а фсё ш таки муш, радной муш, он и пабьёт, он и примолвит . В данном высказывании норма поведения мужа описывается посредством контекстуальных антонимов – глагола нанесения удара побить и диалектной лексемы с семантикой внешнего проявления отношения примолвить , то есть «приветливо, ласково отнестись к кому-либо, приветить, приласкать, принять под свою опеку» (СДГВО, вып. 4, с. 448). Образец отношения к мужу выражается с помощью глагола бояться , который одновременно характеризует состояние субъекта (страх) и указывает на зависимость этого состояния от объекта ( муж ), то есть обозначает негативное эмоционально-оценочное отношение.
Типовая семантика ‘нарушение / утрата родственных связей’ реализуется в частных значениях:
-
– ‘утрата родственных связей, обусловленная какими-либо объективными обстоятельствами’;
-
– ‘нарушение / утрата родственных связей, обусловленные субъективными причинами’.
Первое из указанных значений выражается глаголами и глагольными конструкциями с семантикой отрицательного воздействия на объект (убить) и прекращения бытия (умереть, помереть, погибнуть, не припало пожить), например: У миня систра была в Лес-тюхах, старшая. А ее прицсидатель убил, абех пабил с мужем (О.М. Бочарова, 1901 г. р., х. Ка-лачевский); Толька ни припала пажыть с ним. Триццать лет ужэ без ниво я, помер (В.В. Черноусова, 1932 г. р., ст-ца Преображенская); Дядя у миня паγиб в армии вот в вайну, ну он и атец паγиб (А.В. Парамонова, 1928 г. р., с. Завязка).
Утрата родственной взаимосвязи, вызванная какими-либо субъективными причинами, характеризует, как правило, отношения бывших супругов и обозначена глаголом расходиться : Мы с ним быстра разашлись (А.Н. Додонова, 1926 г. р., ст-ца Тепикинская); Ну, уж я с мужьями фсё, ани уш папóмерли, и мы разашлися, фсё, я с матрей жила (М.Д. Баранова, 1923 г. р., ст-ца Тепикинская).
Нарушение семейных отношений, обусловленное поведением субъекта в тех или иных обстоятельствах, выражается лексемами взаимоотношения, межличностных отношений, поступка и поведения. Так, нарушение брачных уз описывается с помощью просторечного глагола спутляться , то есть «вступить с кем-либо в какие-либо предосудительные отношения» (БАС, т. 14, с. 615): Ну вот, он кагда в армии был, Коршунаф эт Си-мён, а наш был жанатый. И с яво жыной. Ани братья дваюрадные. Ани с яво жаной он спутлялся (О.М. Бочарова, 1901 г. р., х. Калачевский); действия замужних женщин могут характеризоваться глаголами отношения и поведения нравиться , изменять , выкручиваться : Аказываца, жэна изменила, панравился другой, значит муш, и патом начинает выкручиваца (С.М. Лычагин, 1925 г. р., с. Завязка).
Народные обычаи могут способствовать появлению у слова оценочных коннотаций. Например, В.Д. Магомедова, 1935 г. р., так характеризует взаимоотношения родителей и поведение отца с другими женщинами: Ну, жылы дружно, но вин [отец] страшно був ревнивый и страшно був γуляка – якый цэ казак, якый не γуляк. Чужых обязательно любыл, и сосидок, и фсих. Нарушение семейных отношений в данном высказывании обозначено глаголом положительного эмоционального отношения любить, указывающим на отношения мужа с другими женщинами. Интенсивность передаваемого признака подчеркивается наречием меры и степени обязательно и рядом однородных дополнений (чужих, соседок, всех). Слово гуляка в БАС толкуется как «человек, склонный к разгулу, к гульбе, кутила» (БАС, т. 3, с. 486), а в «Экспрессивном словаре диалектной личности» – как «человек, ведущий разгульный, распутный образ жизни» и маркировано пометой «порицательное» (ЭС, с. 41). Однако выражение Якый ты казак, якый не гуляк позволяет понять, что рассматриваемое слово не содержит тех негативных коннотаций, которые свойственны данной лексеме в других говорах. Разгульное поведение донского казака не только не осуждалось, но и признавалось одной из неотъемлемых составляющих его образа жизни.
Отказ от родственных взаимоотношений зафиксирован при функционировании глагола интеллектуальной деятельности знать : Был председателем [брат]. Да он нас знать не знал (О.М. Бочарова, 1901 г. р., х. Калачевский).
Проведенное исследование глагольной лексики, эксплицирующей родственные отношения, позволяет выделить ядерные и периферийные конституенты поля. К ядру и при-ядерной зоне можно отнести глаголы взаимоотношения и межличностных отношений, которые выступают регулярным и специализированным средством выражения рассматриваемого значения, отличаются частотностью, разнообразием парадигматических, синтагматических и эпидигматических связей. К ближней периферии относятся глаголы речевой деятельности, бытия, эмоционального состояния, социальных отношений, к зоне дальней периферии – единицы иных семантических групп (движения, физического воздействия на объект, социальной деятельности, функционального состояния и некоторых других), выступающие неспециализированными и нерегулярными средствами выражения семантики ‘родственные отношения’ в структуре анализируемого лексикона.
Список литературы Глагольные средства выражения родственных отношений в лексиконе диалектоносителей (на материале речи жителей полиэтнических территорий Волгоградской области)
- Балли, Ш. Язык и жизнь/Ш. Балли. -М.: Едиториал УРСС, 2003. -232 с.
- Баранникова, Л. И. Говоры территорий позднего заселения и проблема их классификации/Л. И. Баранникова//Вопросы языкознания. -1975. -№ 2. -С. 22-31.
- Касаткин, Л. Л. Донские казачьи говоры/Л. Л. Касаткин//Слово в тексте и в словаре: сб. ст. к семидесятилетию акад. Ю. Д. Апресяна/отв. ред. Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. -М.: Языки русской культуры, 2000. -С. 582-590.
- Кудряшова, Р. И. Слово народное. Говоры Волгоградской области в прошлом и настоящем/Р. И. Кудряшова. -Волгоград: Перемена, 1997. -124 с.
- Лексикон диалектоносителей в языке региона на территориях смешанного проживания русских и украинцев/под общ. ред. проф. Н. А. Тупиковой. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. -200 с.
- Речь носителей русского и украинского языков в пунктах смешанного проживания населения/Н. А. Тупикова, Д. Ю. Ильин, Н. А. Стародубцева; под общ. ред. проф. Н. А. Тупиковой. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013. -68 с.
- Стародубцева, Н. А. Субстантивные средства выражения родства в лексиконе диалектоносителей (на материале речи жителей полиэтнических территорий Волгоградской области)/Н. А. Стародубцева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2015. -№ 4 (28). -С. 16-24. - DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.4.2
- Тупикова, Н. А. Выражение родственных взаимоотношений в воспоминаниях донских казаков/Н. А. Тупикова, Н. А. Стародубцева, И. А. Нелина//Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2014. -СПб.: Нестор-История, 2014. -С. 626-634.
- Тупикова, Н. А. Лексические параллели в речи представителей русско-украинских семей как отражение культурно-языковых контактов славянских народов/Н. А. Тупикова, Н. А. Стародубцева//Rosja w dialogu kultur. Tom 1. -Toruс: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikoiaja Kopernika, 2015. -С. 303-317.
- Тупикова, Н. А. Основные подходы к структурированию лексикона диалектоносителей в пунктах смешанного проживания населения/Н. А. Тупикова//Известия Южного федерального университета. Филологические науки. -2013. -№ 4.-С. 36-42.
- Тупикова, Н. А. Функционально-семантические свойства глаголов состояния в речи диалектоносителей на территориях смешанного проживания русских и украинцев/Н. А. Тупикова, О. В. Бондаренко//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. -2016. -Т. 15, № 2. -С. 89-97. - DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.211
- БАС -Словарь современного русского литературного языка: в 17 т./под ред. А. М. Бабкина, С. Г. Бархударова, Ф. П. Филина . -М.; Л.: Наука, 1950-1965.
- СДГВО -Словарь донских говоров Волгоградской области/под ред. проф. Р. И. Кудряшовой. -Вып. 1-6. -Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006-2009.
- ТСРГ -Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы/под ред. проф. Л. Г. Бабенко. -М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. -693 с.
- ЭС -Нефедова, Е. А. Экспрессивный словарь диалектной личности/Е. А. Нефедова. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. -144 с.