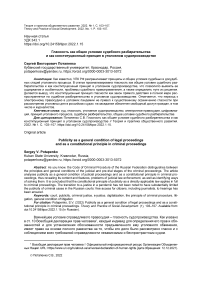Гласность как общее условие судебного разбирательства и как конституционный принцип в уголовном судопроизводстве
Автор: Потапенко Сергей Викторович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
Как известно, УПК РФ разграничивает принципы и общие условия судебных и досудебных стадий уголовного процесса. В статье проанализирована гласность как общее условие судебного разбирательства и как конституционный принцип в уголовном судопроизводстве, что позволило выявить ее содержание и особенности, проблемы судебного правоприменения, а также определить пути их решения. Делается вывод, что конституционный принцип гласности как закон прямого действия в полной мере распространяется на судебное разбирательство в уголовном судопроизводстве. Отмечается, что переход к электронному правосудию в условиях пандемии не привел к существенному ограничению гласности при рассмотрении уголовных дел в российских судах: на заседания обеспечен свободный доступ граждан, в том числе и журналистов.
Суд, гласность, уголовное судопроизводство, электронное правосудие, цифровизация, принцип уголовного процесса, судебное разбирательство, общее условие судебного разбирательства
Короткий адрес: https://sciup.org/149138977
IDR: 149138977 | УДК: 343.1 | DOI: 10.24158/tipor.2022.1.15
Текст научной статьи Гласность как общее условие судебного разбирательства и как конституционный принцип в уголовном судопроизводстве
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия, ,
,
Важнейшее условие справедливого правосудия – гласность судопроизводства. Как указано в ст. 10 Всеобщей декларации прав человека1, каждый индивид для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.
Действительно, гласность является одной из самых существенных гарантий соблюдения прав подсудимого в уголовном процессе.
В России принцип гласности (публичности) был впервые провозглашен в ходе судебной реформы 1864 года. Он нашел отражение, например, в ст. 88 Устава уголовного судопроизвод-ства1, где указано, что «мировой судья разбирает дела изустно и публично». Далее в ст. 89 Устава уголовного судопроизводства указаны дела, которые разбираются «при закрытых дверях». То есть принцип гласности (публичности) по Уставу уголовного судопроизводства допускал закрытие судебного заседания по уголовным делам для публики только в исключительных случаях, которые прямо указаны в этом Уставе. Поэтому справедливо утверждение о том, что «гласность судопроизводства имела огромное значение для изменения общественного сознания. Для российского подданного новые суды были своеобразным “окном” в совсем иную жизнь, вобравшую традиции западноевропейской демократии» (Попова, 2004: 43).
Принцип гласности содержали советские уголовно-процессуальные кодексы: Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР 1923 г. (ст. 19)2, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. (ст. 18)3.
Гласность судопроизводства – это также межотраслевой конституционный принцип российского судопроизводства: «Разбирательство дел во всех судах, – говорится в ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, – открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом»4.
При этом гласность как конституционный принцип может быть либо прямо закреплена в процессуальных кодексах, либо найти в них иное выражение с учетом того, что Конституция РФ – это закон прямого действия.
Статья 9 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «О судебной системе Российской Федерации» носит название «Гласность в деятельности судов»5. Здесь по аналогии с Конституцией РФ также указано, что «разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом».
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ)6 имеет систему принципов (гл. 2 УПК РФ), но гласности среди них нет, хотя положение о ней закреплено в этом кодексе как общее условие судебного разбирательства. Означает ли это, что в уголовном судопроизводстве не действует конституционный принцип гласности, поскольку он не закреплен в УПК РФ? На наш взгляд, данный принцип как закон прямого действия в полной мере распространяется на судебное разбирательство в уголовном судопроизводстве. Тем более что гласности принадлежит определяющая роль в формировании доверия граждан к судебной власти и судейскому корпусу. А это – один из важнейших целевых индикаторов, позволяющих объективно оценить отношение общества к судам и судьям, а также к правосудию в целом. С помощью гласности обеспечивается общественный контроль за функционированием судебной власти. Более того, она является одной из самых существенных гарантий соблюдения прав подсудимого в уголовном процессе.
В этой связи представляются справедливыми высказанные в юридической литературе суждения о необоснованном исключении законодателем «гласности из системы принципов уголовного судопроизводства и закрепление ее в качестве общего условия судебного разбирательства» (Тетюев, 2020: 37).
Как минимум в судебном разбирательстве гласность должна рассматриваться не только как общее условие этой стадии уголовного процесса, но и как конституционный принцип правосудия. Что касается одних досудебных стадий уголовного судопроизводства, носящих розыскной характер, то здесь гласность ограничена, поскольку в силу ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Однако же в других случаях, например, при рассмотрении судом ходатайств об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога и других, гласность должна рассматриваться как принцип уголовного судопроизводства, так как в этом случае действуют общие условия судебного разбирательства (Вилкова, 2017: 35). Здесь принцип гласности должен применяться в интересах как правосудия, так и лиц, вовлеченных в орбиту уголовного процесса, а также в интересах широкой общественности.
Гласности посвящена ст. 241 УПК РФ, согласно ч. 1 которой разбирательство дел во всех судах открытое за исключением случаев, предусмотренных этой статьей.
Как обоснованно утверждает В.П. Кашепов, «открытое разбирательство дела в суде общей юрисдикции является правилом, а закрытое судебное разбирательство – исключением, изъятием из общего правила, причем только в случаях, предусмотренных федеральным законом» (Кашепов, 2017: 146). Действительно, судебное разбирательство должно быть закрытым только тогда, когда суд в своем постановлении по этому поводу сможет обосновать, что гласность может нарушить интересы правосудия.
Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» гласность судопроизводства обеспечивается возможностью присутствия в открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций средств массовой информации (журналистов)1.
Таким образом, гласность как общее условие судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве – это по сути своей судопроизводственный принцип, который, как справедливо отмечал К.Ф. Гуценко, «дает возможность гражданам, не являющимся участниками процесса, присутствовать в открытом судебном заседании и таким образом осуществлять своего рода народный контроль за правосудием»2. С учетом современных реалий всеобъемлющей цифровизации содержание гласности в уголовном судопроизводстве существенно расширилось за счет новых форм его реализации, направленных на обеспечение информационной открытости деятельности судов и осуществление конституционного права каждого на получение информации в судопроизводстве.
В этой связи до сих пор актуально утверждение И.И. Мартинович о том, что «гласность в… уголовном процессе следует понимать как открытое судебное разбирательство с обеспечением возможности для желающих граждан присутствовать на судебном процессе и осведомлением общественности о судебной деятельности путем использования различных средств информации...» (Мартинович, 1968: 8).
Следует отметить, что и в современной юридической литературе высказаны суждения о том, что «гласность (открытость, транспарентность) судебного разбирательства является одним из важнейших принципов уголовного судопроизводства»3. Концептуально с таким подходом соглашаясь, отметим тем не менее его некоторые неточности. Во-первых, нет необходимости использовать термин «транспарентность», поскольку это и есть открытость, а во-вторых, вследствие первого мы разделяем высказанное в юридической литературе мнение о том, чтобы «использовать два термина: “гласность” — применительно к судебному разбирательству и “открытость” – в отношении деятельности суда как государственного органа» (Аносова, 2009).
Представляется, что гласность должна рассматриваться в процессуальном аспекте в качестве конституционного принципа уголовного судопроизводства, а открытость – с позиции обеспечения доступа к информации о деятельности судов, что в конечном счете обеспечивает конституционное право каждого на доступ к информации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) и приобретает особую актуальность в современных условиях становления информационного общества и повышения открытости органов государственной власти (Потапенко, 2020: 12–13). С практической точки зрения гласность судебного разбирательства должна объективно способствовать прозрачности судебной деятельности, формировать доверие граждан к суду.
Гласность уголовного судопроизводства в России в связи с распространением COVID-19 претерпела известные изменения (перешла в удаленный формат), связанные с приостановлением очных судебных заседаний и переходом к электронному правосудию: проведению судеб- ных заседаний с использованием систем видеоконференц-связи, веб-конференций и других цифровых технологий, обеспечивающих безопасную передачу данных. При такой процедуре посторонняя публика не имеет права доступа в залы судебных заседаний и не имеет технической возможности следить за каждым судебным процессом в режиме онлайн, что. конечно же, существенно снизило возможности реализации гласности в уголовном судопроизводстве. Так, например, по резонансным делам видеотрансляция проходила на сайте Мосгорсуда. Работа судебных журналистов в период ограничительных мер строилась через пресс-секретарей судов, подробно разъясняющих прессе не только фактические обстоятельства процессов, но и предоставляющие фото и видео из зала заседаний1. Однако это только временное явление, пандемия COVID-19 неминуемо закончится, и гласность вернется в суды в полном объеме. Хотя нельзя не отметить, что в России коронавирусные ограничения вызвали ускорение повсеместного внедрения в правосудие современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих гласность в уголовном судопроизводстве.
Уровень развития гласности уголовного процесса в России сопоставим с другими развитыми странами. Так, например, в США конституционно закреплено право на публичное (открытое) судебное разбирательство уголовного дела. Здесь просматривается очевидный общественный интерес в том, чтобы видеть, как работает система уголовного правосудия. Считается, что у судей и прокуроров может быть больше стимулов выполнять свои обязанности, если они знают, что общественность наблюдает за ними. Американские юристы обращают внимание на то, что Шестая поправка к Конституции США предоставляет обвиняемым по уголовным делам право на открытое судебное разбирательство, а Первая поправка дает общественности и прессе право доступа к судебным разбирательствам2.
Представляется, что и российские судьи и прокуроры также более ответственно исполняют свои обязанности в условиях открытых судебных процессов, когда они находятся под общественным контролем. К тому же гласность способствует защите судей от необоснованных обвинений в нарушении норм процессуального права.
Однако, в отличие от России, в США запрещена видео- и фотосъемка в судах, поэтому там практикуются зарисовки из зала суда. В Российской Федерации видео- и фотосъемка допускается с разрешения суда.
Кроме того, невзирая на то, что федеральные суды США внедрили видео- и аудиотехнологии для продолжения судебных разбирательств и обеспечения доступа общественности и средств массовой информации в судебные заседания, такой виртуальный доступ к судебным разбирательствам является платным, что ограничивает доступ каждого в зал судебного заседания по интересующему его делу (Schultze, 2018).
Рассмотрение дел в английских судах происходит публично в присутствии прессы и любых желающих граждан. Но они имеют усеченные права по сравнению с представителями российской прессы и приходящими в суд гражданами, поскольку могут фиксировать происходящее в суде на бумаге, но не вправе использовать записывающее оборудование без разрешения суда. Зарисовки в судебном заседании запрещены, их можно сделать только после суда по памяти. В этом автор имел возможность убедиться лично при ознакомлении с работой судов Лондона. Хотя, как отмечается в одном из британских юридических журналов, общие тенденции к большей прозрачности и большей открытости в государственном секторе побудили английских судей использовать новые технологии и предоставлять больше информации в режиме онлайн. Судебные органы создали свои собственные веб-сайты с различными уровнями технологической сложности и функциональности в целях повышения открытости процессов и организации взаимодействия с многочисленными заинтересованными сторонами (Sandoval-Almazan, Gil-Garcia, 2020: 338–339). Правда, в России это было сделано значительно раньше.
В заключение отметим, что гласность в российском уголовном судопроизводстве, несмотря на вызванную пандемией его трансформацию из очной формы в электронную, закреплена законодательно и реализуется на уровне лучших мировых стандартов правосудия, поэтому российский суд – один из самых открытых в мире, на его заседания обеспечен свободный доступ граждан, в том числе и журналистов.
Список литературы Гласность как общее условие судебного разбирательства и как конституционный принцип в уголовном судопроизводстве
- Аносова Л.С. Соотношение понятий гласности, открытости и транспарентности судопроизводства: конституционноправовые аспекты // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 21. С. 25-30.
- Вилкова Т.Ю. Принципы уголовного судопроизводства и общие условия судебного разбирательства, характеризующие деятельность суда // Российская юстиция. 2017. № 1. С. 34-36.
- Кашепов В.П. Преобразование системы принципов судопроизводства при осуществлении судебной реформы // Журнал российского права. 2017. № 2 (242). С. 138-151. https://doi.org/10.12737/24125
- Мартинович И.И. Гласность в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1968. 74 с.
- Попова А.Д. Гласность судопроизводства: становление принципа в период реализации судебной реформы 1864 года // Российский судья. 2004. № 6. С. 42-44.
- Потапенко С.В. Открытость и гласность в свете Концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы // Труды по интеллектуальной собственности. 2020. Т. 35, № 1-2. С. 5-17. https://doi.org/10.17323/tis.2020.13391
- Тетюев С.В. О роли суда в доказывании в состязательном судопроизводстве // Российская юстиция. 2020. № 5. С. 36-39.
- Sandoval-Almazan R., Gil-Garcia J.R. Understanding e-Justice and Open Justice Through the Assessment of Judicial Websites // Social Science Computer Review. 2020. Vol. 38, iss. 3. Р. 334-353. https://doi.org/10.1177/0894439318785957
- Schultze S. The Price of Ignorance: The Constitutional Cost of Fees for Access to Electronic Public Court Records // Georgetown Law Journal. 2018. Vol. 106, iss. 4. P. 1-31. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3026779