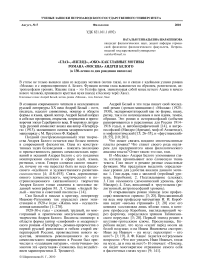«Глаз», «взгляд», «око» как главные мотивы романа «Москва» Андрея Белого (к 130-летию со дня рождения писателя)
Автор: Шарапенкова Наталья Геннадьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (110), 2010 года.
Бесплатный доступ
Андрей белый, мотив, роман "москва", глаз, космос, хаос
Короткий адрес: https://sciup.org/14749746
IDR: 14749746
Текст статьи «Глаз», «взгляд», «око» как главные мотивы романа «Москва» Андрея Белого (к 130-летию со дня рождения писателя)
В сознании современного читателя и исследователя русской литературы ХХ века Андрей Белый – поэт, писатель, идеолог символизма, новатор в области формы и языка, яркий лектор. Андрей Белый вобрал в себя все прозрения, открытия, потрясения и противоречия эпохи Серебряного века. В мировую литературу русский символист вошел как автор «Петербурга» (1913), заложившего основы модернистского романа наряду с М. Прустом и Ф . Кафкой.
Поздний (постреволюционный) этап творчества Андрея Белого остается еще белым пятном в современной филологии. Одна из конструктивных задач беловедения – показать эволюцию и преемственность ранних символистских верований и исканий Андрея Белого с его поздними новаторскими опытами в сфере идей, языка, ритмики, стиля. Говоря словами самого писателя, почему он «не перестал быть во всех фазах» своего «идейного и художественного развития» символистом [4; 418–493]. Связь дореволюционного (символистского, мистического) и постреволюционного (катакомбного) творчества Андрея Белого тонко схвачена в заголовке недавней монографии М. Л. Спивак «Андрей Белый – мистик и советский писатель» [14].
Сам Белый в письме к критику, литератору Иванову-Разумнику так определял свою экзистенцию в 1920-е годы: «Жизнь моя – осуществленная катакомба» [1; 270].
1920–30-е годы – сложный, трудный, но многогранный и практически неизученный период творчества Андрея Белого. Писатель-«новатор» в области формы (автор «симфоний» и модернистского романа «Петербург», романа-пророчества о первой русской революции и гибели старой императорской России), провозвестник нового искусства, зачинатель революционного по сути символистского направления в России был причислен к «уходящим натурам», «попутчикам» (во многом эта «репутация» сложилась под воздействием характеристики Л. Троцкого).
Андрей Белый в эти годы пишет свой последний роман («роман-завещание») «Москва» (1925– 1930), экспериментаторский как по форме, языку, ритму, так и по воплощенным в нем идеям, темам, образам. Это роман и историософский (события разворачиваются в переломные для России 1914– 1916 годы), и автобиографический [14], и антропософский (Мандро (Ариман), миф об Атлантиде), и мифопоэтический [15; 26–35], и «фаустианский» [8; 55], [10; 201].
Что может связать воедино многочисленные пласты романа? Что станет своего рода окуляром для предпринятого нами филологического анализа текста? Ответ таков: это око, глаз.
В «Москве» Андрея Белого упоминания глаза, взгляда пронизывают всю словесную ткань текста. Глаз несет в романе разные смысловые функции. Мы предлагаем выделить определенные уровни для удобства анализа данного мотива: 1. Глаз-дыра, глаз с заплатой (геройный уровень, Коробкин); 2. Подглядывание (слежка); 3. Глаз осьминога (демонический уровень, фон Мандро); 4. Глаз, вписанный в треугольник (религиозный, антропософский уровень).
В открывающем роман эпизоде (сон профессора) появляется «зрачок» [3; 20]. Прославленный на весь мир профессор математики И. И. Короб-кин видит «весьма странный» [3; 20] сон: его комната «составляла лишь яблоко глаза, в котором профессор Коробкин, выглядывающий через форточку, определялся зрачком Табачихин-ского переулка» [3; 20]. Первый эпизод решен в шутливо-гротескном ключе. Проснувшись, Ко-робкин видит, что муха «сидит перед носом на белой подушке; и на Ивана Ивановича смотрит; Иван же Иваныч – на муху; перехитрит – кто кого?» [3; 19]. Л. Ф. Кацис задается остроумным вопросом: «Что мог увидеть Иван Иваныч, глядя на муху, да и она на него?» И отвечает: «Похоже, он видит многократное отражение самого себя в фасеточных глазах мухи» [9; 141].
Муха в первом же эпизоде романа вводит еще один скрытый, антропософский смысл. Андрей Белый в письме к Иванову-Разумнику (который живет в это время в Царском (Детском) селе, куда Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) приезжал к нему не единожды) вскрывает символичность (значимость) каждой детали начального эпизода: «“Муха” - атрибут Аримана; “Бельзе-бул” (аспект Аримана) в духе точного перевода -царь “мух”; “муха-кусака” - вестник Бельзевула-Аримана; первые строчки не каламбур, а зловещее извещение Аримана Коробкину, предназначенному добрыми силами быть воином Михаила» [1; 379]. В этом шифрованном послании (Мо сковское антропософское общество имени М. Ломоносова было закрыто в 1921 году [14; 209-229]) будущая миссия Коробкина подана как сражение «воина Михаила» (здесь сливаются имя патрона антропософского общества Михаила Ломоносова и архангела Михаила).
Мы зафиксируем важный мифолого-символический смысл: все события романа (следует предположить) будут проходить под сенью Архангела Михаила. Битва «воина Михаила» Ко-робкина дана вначале как шуточный бой с мухами, которые здесь выступают предвестниками Вельзевула-Аримана. Вельзевул в Евангелии предстает как «князь бесов» (Матф. 12, 24 и 27; Мк. 3, 22; Лук. 11, 15-19). С. С. Аверинцев приводит свидетельство переводчика и комментатора Библии Евсевия Иеронима, который «связывал имя Вельзевула с именем упоминаемого в Ветхом Завете бога филистимлян Баал-Зебуба (“повелитель мух”)» [12; 121]. Кроме того, Вельзевул имеет и еще несколько толкований, согласно которым он уподоблен «Балу (Ваалу)-дьяволу», то есть «является синонимом дьявола, сатаны» [12; 121]. О значимости этого мифа говорит и восприятие Белым Москвы 1920-х годов как «Вельзевулова города» [1; 310].
Ариман - это многозначный антропософский символ. Ариман - «дух лжи», «механизм + голая абстракция логики» [1; 57], создающие мир Майи (ариманической иллюзии). Реальным воплощением ариманической силы в романе предстает фон Мандро, который охотится за изобретением математика Коробкина. Итак, уже первые эпизоды романа по законам лейтмотивной поэтики в разных стилистических срезах (от пафосного до гротескного) подготавливают читателя к будущей трагедии героя (в тексте сказано: «в начале трагедии» [3; 23] Коробкина).
Это желание «быть зрачком», обнажившееся во сне, возникает и в дальнейшем. Иван Короб-кин, выстраивая собственное мировоззрение, «в мыслях занял незанятый трон Саваофа - как раз в центре “ Ока ”: зрачком!» [3; 39].
Саваоф - одно из имен Бога Отца в Ветхом и в Новом Заветах. Имя Саваофа означает «беспредельное величие Божие, Его владычество над всеми сотворенными, Его могущество и Его славу. Он Бог воинств, Господь силы. <...> Его ок- ружают и Ему служат сонмы Ангелов и все воинства небесные» [5; 614]. Профессор Коробкин, мечтающий стать «Оком», занимает трон (место) Бога, становясь «Саваофом науки». Отметим особо, что здесь подчеркивается «сила» и «могущество» Божье. Саваоф - «Бог воинств», так и герой романа наделяется миссией: стать воином архангела Михаила (антропософский уровень).
Глаз в начале романа А. Белого связан с ясностью и точностью математической науки (сам Коробкин - «майорат», «максимальный термометр науки» [3; 21]). Математика становится своего рода коконом для героя, укрывающим его от бурь и трагедий первозданной жизни. «Скрижаль мировоззренья» [3; 38] Коробкина определена в романе как путь вселенной «к ясности, к мере, к числу» [3; 39], к чему уже пришли именитые математики всего мира, а остальная масса дойдет через «всеобщее обучение» [3; 39]. Понимание мира (поиск истины) для Коробкина связано с актом зрения, он мечтает быть зрачком (точкой отсчета) этого мира. «“ Рациональная ясность ” держала победу; невнятица - выглядела из окошечка желтого дома напротив» [3; 38] (так автор романа подчеркивает, что одержанная победа над «невнятицей» (хаосом) лишь временная). Дом напротив - дом «паука»-соглядатая Грибикова (при появлении Мандро в глазах Гри-бикова «сплошной муший зуд: любопытство сплошное» [3; 196]).
Итак, обратимся ко второму уровню мотива глаза (подглядывание, слежка). В романе Андрея Белого возникает сложный многомерный образ глазастого мира (мира с миллионами глаз!): «Гла-зопялы - за всем, отовсюду следили; из окон, дверей, подворотен» [3; 161]. Совершенно справедливо утверждение японской исследовательницы В. Коно: «Художественный мир в “Москве” - это “глазастый” мир» [11; 491]. В романе «Москва» воссоздана гротескно-устрашающая атмосфера слежки «всех за всеми». Так, подручный Мандро Грибиков «въедался глазами в коробкинский дом» [3; 54]. Пытаясь скрыть от профессора свою подпольную деятельность, революционер Киерко тем не менее все подмечает и следит за всеми: сквозь ресницы «поколол, как иголочкой, серым зрачоч-ком», «быстрый зрачок перекинулся... пируэтиком эдаким» [3; 41]. Доктор слушает «нелепые сплетни» о «деле» Коробкина (который находится в его психлечебнице), при этом «глазки, присевшие в белых, безбровых мясах, стали - тигры малайские» [3; 411]. Сам доктор Пэпэш-Довлиаш - «московский масон», имеет задание от «Князя», нажим рук которого «лондонский» [3; 421].
Велес-Непещевич - звено между разными правительствами («со всяческой властью» [3; 426] стоит в сношениях) - носит брюки «лондонских» фасонов [3; 426], лицо же: «красный квадрат - подбородок» и «злы щелки глазные» [3; 426]. Именно Велес-Непещевичу дано задание изловить злодея Мандро, сплести вокруг него паутину слежки. Его имя (Велес - «скотий бог») и внешность («бычья, надутая жилами, шея» [3; 425–426]) через символические детали воссоздают портрет мошенника, негодяя, афериста, «функция» которого – «резать цыплят» [3; 426]. Брошенная мимолетом деталь-сравнение «глазки, клопики, карие» [3; 426] станет выражением сущности и опознавательным знаком Велес-Непещевича и его тайного задания с «лондонским душком»: «вот клоп!» [3; 428].
Глаз может стать основополагающей характеристикой героя, выражающей его «нутро», утаиваемую суть. Так, у доктора-шпиона, психиатра, чья миссия – лечить души больных людей, «глаз – бараний, пустой» [3; 408] как знак его не только профессиональной, но и человеческой несостоятельности. У прислужника Мандро карлика Ка-валькаса, его «Лепорелло по части разврата» [3; 294], «вовсе не было глаз: вместо них – желто-алое, гнойное вовсе безвекое глазьё» [3; 62].
Каков взгляд самого антагониста главного героя, «маркиза де Сада и Калиостро ХХ века» [2; 7]? Глаз шпиона и насильника Мандро связан с мотивом души (испить душу). А есть ли у него самого душа? В романе о Мандро сказано: «Душа проваливалась, как нос Кавалькаса» (тот из-за перенесенного сифилиса лишился носа) [3; 288].
Автор связывает рождение нового «высшего “Я”» [1; 382] в человеке с рождением младенца (мальчика). Мандро, «мальчика раз изнасиловав в Риме» [3; 294], тем самым убивает в себе душу, способность переродиться. Андрей Белый так подводит черту под Мандро: «Мальчика» (“духа” в себе) зарезал Мандро» [1; 382].
Мандро всем своим видом и повадками воплощает двойственность (расхождение внутреннего и внешнего): «…на устах сахарец, а в глазах – сатанец» [3; 282], «очаровательный, серебророгий и лживый» [3; 284]. Инфернальная, сатанинская природа Мандро закреплена в его «оксюморонном» взгляде: «Обдал согревательным взглядом: но взгляд – ледянил; и вставало, что этот – возьмет: соком выжмет» [3; 101]. Мандро – обладатель «всем угрожавшим ожогом зеркального глаза» [3; 65], он «глядел гробовыми глазами бобрового цвета» [3; 64]. Гробовые глаза призваны усилить связь Мандро с потусторонним миром. Глаз Мандро проникает в душу его дочери Лизаши: «Будто взор свой взлил в душу; и взлив этот жизнь возмутил» [3; 179]. Мандро (передано через несобственно-прямую речь восприятие Лизаши) «взглядом, как пиявкой, вцеплялся, почуяв капканы: не “богушка”: чортище!» [3; 284].
Глаз, взгляд – это еще и выявление внутреннего, подсознательного (здесь: звериного) в человеке. Само грядущее насилие Мандро подано через преступный взгляд. Так, в эпизоде, предшествующем сцене инцеста, сказано: «Через головы всех он возлег на ней взглядом. Они забарахтались: взглядами» [3; 204]. Лизаша наблюдает, как «глаза разрастались над ней» и «взор его в ней прорастал чем-то жутко- преступным» [3; 179]. Странное и непонятное самой Лизаше чувство к отцу выражено через движения глаз: «…очень блажными глазами, стрелявшими сверком, вонзились в отца; и старалась его улелеять глазами» [3; 66]. Поединок Лизаши и Мандро также обставлен взглядами: «Видел он, как глазенок стал – глаз; глаз – глазище; жестокий и злой» [3; 290]. Этот мотив (огромный глаз-глазище) всплывает и во втором томе романа (где все герои спрятаны под псевдонимами-масками). Именно глаз-глазище (среди других примет) позволяет читателю распознать в облике Элеоноры Леоновны Тителевой Лизашу фон Мандро. Мадам Тителева (Лизаша), узнавшая своего насильника-отца, возвращается домой. Весь ужас, пережитый и вернувшийся к ней, зафиксирован в глазе: «А из-за дыма не глазиком – глазом расплавленным: тяжеловесным топазом» смотрела [3; 400].
Главное событие в первой части романа – ослепление Коробкина. Подготавливается оно исподволь, вначале почти гротескно-шутливо (как бой с мухами в начальном эпизоде). Любимое существо Коробкина в собственном доме – пес Томочка, который по тайной логике уподоблен самому хозяину. Сравнения героя с псом прослеживаются на протяжении всего романа. А. Белый в письме к Иванову-Разумнику: «Пес приносит знак “страстей Коробкина”: грязную тряпку» [3; 382]. Среди других скрытых смыслов нам сейчас важна странная деталь облика Томочки (его окровавленный взгляд). А. Белый в том же письме к другу-литератору так осмысляет этот мотив: «Тема окровавленного взгляда песика: “горько скосив окровавленный взгляд”, их “оглядывал всех окровавленным взглядом”, – есть предварение окровавленного “безглазия”: выжженного глаза профессора; а тема “тряпки” пса – тема заклепанного рта» [1; 383].
Главный вопрос, который поднимается в данной статье: почему Мандро выжигает Короб-кину глаз? И крайне парадоксальный и даже, на первый взгляд, крамольный вопрос: нужен ли Коробкину Мандро (не наоборот!)?
И. И. Коробкин отказывается отдать шпиону свои исчисления, за что Мандро подвергает ученого адской пытке, выжигает ему свечкой глаз: «У профессора вспыхнул затоп ярко-красного света, в котором увиделся контур – разъятие черное (пламя свечное); и – жог, кол и влип охватили зрачок, громко лопнувший; чувствовалось разрывание мозга; на щечный опух стеклянистая влилась жидкость» [3; 355].
Сцена «страстей Коробкина» (его ритуального распятия) – эмоциональный и духовный апофеоз всей первой части романа. Она имеет множество слоев, каждый из которых дает «приращение» смысла. Первый – автобиографический, в духе «косвенного духовного автобиографизма» (Н. В. Барковская). В кульминационной сцене романа (сцене истязания) М. Л. Спивак выявляет значимый «берлинский след» [14; 253]. В 1921
году в Берлине произошел разрыв писателя с Р. Штайнером, основоположником антропософии, который сыграл крайне важную роль в становлении Белого-писателя и мыслителя. Свою «берлинскую трагедию» писатель передает через зрительные коннотации: «Я бегал в цоссенских полях (под Берлином. – Н. Ш. ), переживая муки, которым не было ни образа, ни названия… а когда мука стала отделяться от меня, то образ меня самого встал передо мною; и на бумагу полились фразы… В диком безумии взгляда – безумия не было; но была – твердость: отчета потребовать, на основании какого закона возникла такая вер-тучка миров, где… глаза выжигают» [4; 486].
Помимо экзистенциально-биографического и пророческого [7; 25] пластов, в сцене истязания Коробкина есть и другие, связанные непосредственно с художественной тканью романа. Восстановим цепочку сцен, предшествующих «страстям Коробкина» (держа в голове важнейший для нашего исследования мотив глаза).
Профессор, находясь на даче под Москвой, мучается вопросом: «Как быть с открытием?» Ко-робкин везде чувствует, что за ним следят (даже «жара жахала страхом» [3; 322]). Все космические метаморфозы готовят, как размышляет герой, «перерождение мозга» [3; 322]. Рушится созданная героем модель «предустановленной гармонии» мира: «Не защищает его государство; и хаос, как фактор развития, – действует» [3; 322].
Весь окружающий Ивана Коробкина ландшафт словно пропитан инфернальными испарениями: «Всюду в мути лесного пожара открыли-ся глазы», «всюду глазье, как репье» [3; 323]. Тема слежки (подглядывания), выявленная нами в первой части статьи, приобретает в этом эпизоде инфернально-всеобщий характер. Коробкин ощущает «дыру в голове», которая символически предвещает ослепление, Голгофу. Мотив дыры чрезвычайно важен в романе, он отсылает нас и к Мандро, и к выжженному глазу (заплатка вместо пустой глазницы, то есть дыры). Процесс слома сознания закреплен в мотиве глаза: «Был прежде слепцом он; не видел себя – в обстоянье, в котором он жил и работал; и кто-то ему, сделав брение, очи открыл, – на себя самого, на открытие; видел, что в данном обстании жизни оно принесет только гибель» [3; 323]. Отметим судьбоносное и пророческое: «брение» глаза еще не произошло, а предугадано самим героем, то есть духовное страдание идет впереди самого физического акта.
Свою квартиру Коробкин, куда он сам приводит старика Мордана (переодетого Мандро), воспринимает как лабиринт, ведущий «неизвестно куда», а «в отверстие входа пещерного валится мамонт» [3; 340]. Оказавшись в своем кабинете, профессор различает «темно-багровый предмет», который «жег, как жегло» [3; 340]. Сосед Вишняков наблюдает (следит!) в замочную скважину за всем происходящим в доме профессора. Вишняков «отскочил перед диким, воисти- ну адского вида балетом профессора» [3; 345]. Одноглазый профессор в сцене пыток наделен мифологической функцией. «Трагический танец» Коробкина напоминает «мистериальную пляску бога-шамана одноглазого Одина, приносящего себя в жертву самому себе» [13; 183]. Мандро в этой страшной сцене становится двухслойным: «…разорвется “мордан” из бумаги, – просунется нечто жестокое из очень древней дыры, вкруг которого лоскутья бумаги – остатки “мандрашины” – взвеясь, покажут под ними таящийся – глаз, умный глаз – не Мандро; заколеблется вот голова в ярких перьях; жрец древних, кровавых обрядов – “Мандлопль”» [3; 349]. «Глаз, умный глаз», «глаз осьминога» – станет ведущим мотивом «проходимца истории» Манд-ро. В финале романа Коробкин прощает своего мучителя, желая, чтобы в изверге пробудился человек. Это предполагаемое (но не состоявшееся) пробуждение передано через мотив глаза. «Свои руки развел точно поп, на алтарь выходящий… чтобы глаз ослепительный головоногого чудища, – глаз осьминога, слезой овлажняяся, –
– стал человеческий глаз!» [3; 624].
Мандро через мотив спрута (осьминога) связан с верховной темой романа – темой большого города-мегаполиса – Москвы, которая катится к катастрофе, в яму, в Тартар [15; 26–35].
Мандро во время пытки ученого… плачет. Что скрыто за этим странным поведением насильника? Эту проблему осмысляет в своей работе В. Коно: «Мандро выбирает в качестве способа пытки именно выжигание глаза не потому, что это нужно ему самому. Скорее это нужно Коробкину и автору романа» [11; 495]. И далее исследовательница делает крайне важный вывод: «И хотя при первом прочтении кажется, что Мандро выжигает глаз в своих целях (чтобы заполучить открытие. – Н. Ш. ), но на самом деле он поступает так, потому что это его роль и неизбежный рок» [11; 496]. Мандро здесь – орудие в руках оккультных сил (доктора Доннера), он должен выполнить особую мистериально-мистическую функцию.
«Пробуждение» (возвращение сознания) Ко-робкина в желтом доме лейтмотивно отсылает нас к начальному эпизоду романа: «Распахнулся оконный квадрат: чье жилье? Штора, веко, – открылась; но мгла из-за шторы глядела; и кто-то к окну подошел, как зрачок, появившийся в глазе; старик коренастый – в халате… а на глазе – квадратец заплаты безглазился» [3; 410]. Напомним, в первом эпизоде герой видит сон, в котором комната – оболочка глаза, а сам он – зрачок. В приведенном отрывке возникает целая цепочка смыслов, где внешнее (окно, которое тоже глаз для дома) превращается во внутреннее (глаз): штора, что веко героя, открывается, а там темнота (как и у Коробкина темнота перед изуродованным невидящим глазом), штора окна есть и «квадратец» (повязка) на больном глазе.
Сцена «распятия Коробкина» (выжигание глаза) вновь и вновь воспроизводится в романе.
Так, во второй части «Маски» брат профессора, вглядываясь во тьму, видит: «…пуча каменное, налитое страданием око и бросив пред пузищем ярко-кровавую кисть, из которой клевала зажженная свечка в проход, –
– прочесал толстопятый толстяк» [3; 393].
«Налитое страданием око», «кровь», «свеча» ассоциативно возвращают к ключевой сцене пыток, хотя в данном эпизоде речь идет о другом персонаже (революционере-подпольщике).
После возвращения из желтого дома Короб-кин оказывается в комнате, где произошла трагедия. Он восстанавливает всю цепочку происходящего в ней. Обращаясь к воображаемому мученику, он восклицает: «На основанье какого закона копался ты в глазе моем?» [3; 623].
Эпохальное событие-испытание – пытка героя – обернется для него точкой сдвига (прозрения («зрак»)): он осознает собственную сопричастность через открытие смертоносного луча к мировым катаклизмам, начинает видеть «очами души» [3; 624]. Этот процесс зафиксирован еще перед Голгофой Коробкина: начал «вывариваться из большой знаменитости и из добрейшего пса – человек» [3; 160]. Единственный глаз открыл герою путь в антропософские высшие миры: «Ослепительный глаз, ослепляющий глаз, но слепой, вобрав блески, ушел за пределы миров» [3; 571].
«Москва» Белого явилась закономерным преемником жизнетворческих (символистских по сути и происхождению) идей писателя. Л. К. Долгополов делает вывод: «Литература же, как искусство, окончательно теряет для него свое приоритетное положение, трансформируясь в “жизнетворческое” начало, становясь… “позывом” к действию и новому человеку» [6; 386].
Внутреннее преображение человека зафиксировано через рождение в нем «ребеночка», «младенца». Так, в работе 1920-х годов «Кризис культуры» Андрей Белый восклицает: «…родился
“младенец” в душе человека» [4; 276]. Но рожденного в муках младенца ждут мистериальные испытания, введенные писателем в библейский контекст: «Гонения начинаются; духовно родивший “младенца” (иль духа в душе) пусть бежит: вот появятся воины Ирода (для избиения “младенца”) и персонажи международно-астрального сыска устроят охоту» [4; 276]. Все эти христианско-оккультные знаки отражают восприятие Белым двух с половиной лет (с марта 1914 года по июль 1916-го), проведенных в Дорнахе (строительство Гётеанума, антропософское служение, посещение Базеля, родины Ф. Ницше). Пережитый автором страх оккультного «душевного сыска» вводится впоследствии в роман «Москва».
Финал романа амбивалентный. Действительно, мир рушится, катится в Тартар, раздается страшный взрыв. Герой открывает для себя пространство любви, веры, его озаряют идеи всепрощения и милосердия. Но в заключительном эпизоде сказано:
«Он не видит –
– как крыша взлетает под небо, как дым выбухает» [3; 754].
Герой вбирает в себя черты и самого автора. Так, В. Паперный справедливо заключает: «За повествовательную маску героя писатель помещает самого себя, автобиографический миф о себе как о Христе, а за маску антигероя – коллективный портрет тех, кто, в представлении Белого, мучил его на протяжении жизни» [16].
Восприятие нового ХХ века как «звериного» и связь века (поступи истории) со зрачком (человеком) с утаенным гамлетовским смыслом предстает и в стихотворении О. Мандельштама, автора эпитафии А. Белого:
Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит Двух столетий позвонки?
Список литературы «Глаз», «взгляд», «око» как главные мотивы романа «Москва» Андрея Белого (к 130-летию со дня рождения писателя)
- Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка 1913-1932 гг./Публ., вступ. ст. и коммент. А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб.: Atheneum: Феникс, 1998. 733 с.
- Белый А. Маски. М.: ГИХЛ, 1932. 448 с.
- Белый А. Москва/Сост. С. И. Тимина. М.: Сов. Россия, 1989. 768 с.
- Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. 528 с.
- Библейская энциклопедия. М.: Издание Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 1990. 903 с.
- Долгополов Л. К. Роман Андрея Белого «Петербург». Л.: Сов. писатель, 1988. 413 с.
- Иванов Вяч. Вс. Профессор Коробкин и профессор Бугаев//Москва и «Москва» Андрея Белого. М.: РГГУ, 1999. С. 11-28.
- Ишимбаева Г. Г. Фаустиана по-антропософски («Москва» Андрея Белого)//Ишимбаева Г. Г. Русская фаустиана ХХ века. М.: Флинта, 2002.
- Кацис Л. Ф. «Московский чудак» Андрея Белого: к генезису образа//Москва и «Москва» Андрея Белого. М.: РГГУ, 1999. С. 137-152.
- Колихалова (Шарапенкова) Н. Г. Гётевские мотивы в романе Андрея Белого «Москва»//Русская словесность в контексте мировой культуры. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. С. 197-202.
- Коно В. Мотив «глаза» в романе «Москва» А. Белого//Андрей Белый в изменяющемся мире: к 125-летию со дня рождения/Сост. М. Л. Спивак, Е. В. Наседкина, И. Б. Делекторская. М.: Наука, 2008. С. 489-498.
- Мифология/Гл. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 736 с.
- Пискунов В. М. Из наблюдений над текстом романа «Москва»//Пискунов В. М. Чистый ритм Мнемозины. М.: Альфа М, 2005. С. 175-185.
- Спивак М. Л. Андрей Белый -мистик и советский писатель. М.: РГГУ, 2006. 577 с.
- Шарапенкова Н. Г. Мифопоэтика романа «Москва» Андрея Белого//Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2009. № 4. Т. 2. Сер. Филология. СПб., 2009. С. 26-35.
- http://www.utoronto.ca/tsq/05/brio05.shtml.