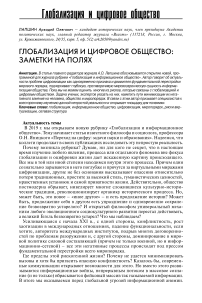Глобализация и цифровое общество: заметки на полях
Автор: Лапшин Аркадий Олегович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье главного редактора журнала А.О. Лапшина обосновывается открытие новой, программной для журнала рубрики «Глобализация и информационное общество». Автор говорит об актуальности проблем цифровизации как одновременно признака и движителя фундаментальной перестройки мирового порядка, подчеркивает глубокую, противоречивую мировоззренческую сущность информатизации общества. Пока мы не знаем многие из рисков, которые связаны с глобализацией и цифровым обществом. Задача ученых, экспертов указать на них, наметить пути минимизации их негативного влияния на человека, общество и миропорядок. В связи с этим автор призывает специалистов к всестороннему изучению данной непростой реальности и открывает площадку для полемики.
Глобализация, информационное общество, цифровизация, миропорядок, риски виртуализации, сетевая структура
Короткий адрес: https://sciup.org/170170878
IDR: 170170878 | DOI: 10.31171/vlast.v27i1.6228
Текст научной статьи Глобализация и цифровое общество: заметки на полях
Актуальность темы
В 2019 г. мы открываем новую рубрику «Глобализация и информационное общество». Тему начинает статья известного философа и социолога, профессора О.Н. Яницкого «Переход на цифру: задачи науки и образования». Надеемся, что коллеги продолжат в своих публикациях исследовать эту непростую реальность.
Почему возникла рубрика? Думаю, ни для кого не секрет, что в настоящее время изучение любого явления, процесса или отдельного феномена вне фокуса глобализации и оцифровки жизни дает искаженную картину происходящего. Все мы в той или иной степени находимся внутри этого процесса. Причем одни сознательно зарываются в него поглубже и прячутся за виртуальными миражами цифровизации, другие не без основания высказывают опасения относительно потери традиционных, простите за высокий стиль, гуманистических ценностей, нравственных установок и самой приватности жизни. Действительно, общество постмодерна обрывает, нивелирует многие сложившиеся культурно-исторические традиции, революционизирует органику исторического процесса. Но, может быть, это новое – «иное другое» – и есть продолжение истории? Может быть, продолжение себя в другом есть упразднение и одновременно сохранение безвозвратно устарелого? И открытый философом универсальный механизм любого эволюционного социокультурного развития перестал действовать, а великий Гегель безвозвратно устарел? Что мы наблюдаем?
Усиливающаяся с начала ХХІ в., с одной стороны, конфликтность, рост хаотизации в международных отношениях, падение функциональности, если хотите, авторитета международных институтов, подрыв многих договоренностей по проблемам разоружения и, с другой стороны, доминирование в мировой политике силовой составляющей (причем не только военной, но и информационно-сетевой) – все эти негативные процессы происходят под прессом фундаментальной перестройки всего миропорядка.
Где пределы этой рискогенной жизни? Почему не удается минимизировать вызовы и хотя бы пригасить опасную конфликтность? Казалось бы, современные коммуникации открывают возможности для этого. Но вместо этого развязываются информационные войны, непрерывным потоком в массовое сознание (и не только) вбрасывается фейковый массив так называемой информации. В итоге мы оказываемся перед глобальной угрозой информационной аномии.
Неужели общество массового потребления, возникшее на основе англосаксонской модели капитализма, зашло в тупик? Почему «безнормность» становится нормой? И в дискурсах появляется знаковая приставка пост . Постнорма, постистория – эти изыски современной научной рефлексии пытаются стать объяснительными слоганами. Что это означает? И как далеко могут нас завести эти теоретические установки и основанные на них практики?
Отвечать на все эти и другие вопросы должны, прежде всего, специалисты, профессионалы. Глобальные риски сегодня слишком велики, чтобы давать их на откуп средствам массовой информации или дилетантам от науки.
В своих заметках мне хотелось высказать некоторые отдельные соображения и в большей мере задать ряд вопросов, которые, надеюсь, позволят нашим читателям увидеть вероятные или, точнее, возможные картины исследуемой реальности.
Процессы глобализации осуществляются в недрах 4-й НТР и сопрягаются с цифро-сетевой революцией. Собственно, последняя и является вектором и движущей силой радикальных изменений в ХХІ в. Именно они формируют совершенно новую картину общества и миропорядка. И, естественно, все эти новые явления, взламывающие старые практики и научные картины мира, лежат в основе новых вызовов и рисков. Анализ этих явлений является важнейшей задачей наук, в т.ч. и гуманитарных. Об этом пишет в своей статье профессор О.Н. Яницкий.
Прежде всего, что происходит?
Я полностью согласен с тезисом, что глобальные процессы и современная цифровизация не могут развиваться в локальных геополитических рамках. Здесь возникает фундаментальное противоречие между национально-государственными суверенитетами и самой глобализацией, начавшейся в русле современного капитализма с его ТНК, которые не терпят традиционных границ. Минимизация этого противоречия идет на базе различных объединений, союзов и сообществ. Но реальная политическая практика показывает, что каток глобализации сталкивается со стремлением народов сохранить (в новых формах) не только свои суверенные права, но и свою социокультурную идентичность. Налицо еще одно фундаментальное противоречие, которое нуждается как минимум в постоянном мониторинге. Ломается институт социального государства, мутирует социальная структура, глубокую деформацию переживает традиционная семья. Какие внутренние и международные механизмы необходимы для смягчения этих противоречий? Но прежде чем что-то делать, надо понять, что происходит.
В рамках культурологического дискурса, который активно разрабатывал известный культуролог, философ и художник профессор А.А. Пелипенко (см. его книги «Глобальный кризис и судьбы Запада». М.: Знание. 2014; «Контрэволюция». М.: Знание. 2016; «Постижение культуры»: в 2 ч. Ч. 1 «Культура и смысл». М.: РОССПЭН. 2012), содержатся некоторые теоретические предпосылки для понимания происходящего. Согласно его концепции, в настоящее время осуществляется переход от логоцентрической к цифроцентрической организации жизни с ее тотальной компьютеризацией и сетевиза-цией. По сути, это фундаментальный, экзистенциальный процесс в эволюции человеческой культуры. «Как будет выглядеть мир после очередной переоценки “вечных” ценностей? Что из наследия великой западной цивилизации будет востребовано “новыми варварами”, и как сложатся отношения между уходящими людьми Слова и идущими им на смену людьми Цифры? До каких оснований разрушится бурно меняющийся, но ставший, тем не менее, привычным современный мир? Какой частью своего ресурса пожертвует антропосистема, переходя в иное эволюционное качество?» [Пелипенко 2014: 8]. Не исключаю, что многие не согласятся с предельно жесткими выводами, сделанными безвременно ушедшим от нас мыслителем. Пожалуйста. Спорьте. Предлагайте свои ключи для понимания сегодняшних реалий. Журнал открыт для острой полемики. Главное, чтобы она была в русле профессионального анализа.
Еще несколько проблем, которые возникают в рамках темы. Как глобализация и цифровое общество сопрягаются с сохранением приватности жизни? Тотальная чипизация способна убить это достояние человеческой культуры. На человека активно наступает тотальная электронная идентификация личности. Где пределы этих процессов? Кто и как их должен регулировать? Какова здесь роль государственных институтов и гражданского общества? Об этой весьма противоречивой стороне современной жизни статья Ольги Климашевской.
Еще одно новое явление – радикальное изменение социальной структуры. Появление новых слоев и прослоек. Прекариат уже не миф, но тогда как его встроить в цифровое общество? Выдающийся социолог М. Кастельс писал, что «неравенство и поляризация предписаны динамикой информациональ-ного капитализма и будут доминировать до тех пор, пока для преодоления этих тенденций не будут предприняты сознательные действия» [Кастельс 2000: 499]. Эксперты отмечают, что процессы глобализации носят крайне неравномерный по геополитическим масштабам характер. Более того, они накладываются на различные цивилизационные массивы, или составляющие. Все это порождает новые виды противоречий в виде торговых и иных войн (гибридных, информационных) и каких-то иных, просто не известных науке конфликтов и противоречий.
Современное общество все в большей степени подвергается такой «болезни», как информационная аномия. В результате происходит процесс цифровой декоммуникации. Возникает парадоксальная ситуация: при все возрастающем числе знаков, спрятанных в цифровую оболочку, объем убедительных значений и смыслов не растет, а падает. Происходит тотальная эмансипация «знака» от «вещи», по теории Бодрийяра. Более того, массовым потоком идет дезинформация. Достаточно посмотреть стандартные файлы Интернета, чтобы в этом убедиться. Но раз это происходит и, более того, усиливается – значит, это кому-то нужно и кто-то в этом заинтересован? В условиях глобального рынка просто так деньги на ветер бросать никто не будет.
Нужно продолжить искать выходы из этих цифровых лабиринтов. В противном случае доверие к политике и политикам будет непрерывно падать. «Доверие как залог адекватности политической коммуникации становится своеобразной “валютой”, от которой зависит функциональность власти» [Карпова 2017: 5]. Сети, сетевые отношения и архаизация жизни… Казалось бы, несовместимые явления. На самом деле «сетевая структура постиндустриального социума, о которой убедительно писал М. Кастельс, порождает и “свое другое”, целые системные области доцивилизационного мышления и действия» [Абдрахманов, Буранчин, Демичев 2016: 7]. В качестве одного из примеров таких негативов авторы приводят идеологию и практику исламского фундаментализма. Но, думаю, процесс архаизации имеет место и в иных, далеких от исламского экстремизма местах. Нужно все это мониторить, исследовать и минимизировать. Молодежь в начале ХХІ в. – тема серьезнейшая. Не случайно в журнале существует даже отдельная рубрика с одноименным названием.
Почему виртуализация жизни, особенно у молодежи, ведет к одиночеству, потере реальной коммуникативности, возникновению феномена так называе- мого клипового мышления и, как следствие, к подрыву здоровья нации? А это уже не только одна из проблем государственной и общественной безопасности, но и проблема сохранения самой государственности. Не случайно в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ 9 мая 2017 г., акцент делается на «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий». Но как реализовать этот приоритет и одновременно обеспечить условия для прорывного развития России?
Еще одна проблема – виртуализация глобальных рынков. Использование на этих площадках роботизированных систем часто ведет к непредсказуемым скачкам цен. Как оптимизировать этот процесс? Или опять-таки кто-то очень заинтересован именно в таких рыночных регуляторах? Вопросы, вопросы…
Как исследовать глобализацию и цифровое общество?
Великий Альберт Эйнштейн как-то высказал очень содержательную мысль: «Вы никогда не сможете решить возникающую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел Вас к этой проблеме». Попытки исследовать, а тем более строить цифровое общество на базе технологического детерминизма – вариант тупиковый, но подкупающий своей простотой. Технократический экономизм, облеченный в цифровую оболочку, не только не способен стать методологической основой понимания современных процессов глобализации, но и сам является инструментом манипулятивных практик части современных элит. Об этом говорят и классики социологии вроде М. Кастельса, и продвинутые практики от финансовой сферы1. В Докладе о развитии цифровой экономики в России проводится простая мысль, что цифровое общество должно органически сопрягаться с не цифровой составляющей современного общественного воспроизводства. В противном случае могут возникнуть различные «подрывные» эффекты от внедрения новых технологий. Необходимо найти ключи, механизмы (причем сначала в модели), соединяющие и дополняющие одну и другую составляющие современного прогресса как в научно-технической, так и в социогуманитарной ипостасях. Действительно, в настоящее время очень легко уйти в крайности или в неосознанное или осознанное упрощенчество. А учитывая особенности нашего национального характера – проскакивать серединное состояние в рефлексии, что является родовой ошибкой наших интеллектуалов и политиков, – такая опасность существует. Как ее избежать? Возможно, упрощенчество за счет скорости – проблема не только нашего характера. Интересную мысль сформулировал по поводу новейших тенденций современного развития Г. Киссинджер. В одной из своих статей он пишет: «В цифровом мире приоритетна скорость, что препятствует рефлексии, радикалы получают преимущества перед вдумчивыми людьми, ценности формируются консенсусом субгруппы, а не в процессе размышлений. Несмотря на все достижения, цифровой мир рискует сам себя уничтожить, потому что недостатков больше, чем удобств» [Киссинджер 2018]. Тоже предельно жесткое утверждение. Давайте спорить, коллеги.
Техно-прагматические подходы к изучению глобализации и цифрового общества должны стать фрагментом системного подхода к этим процессам. И здесь важна не только чистота методологических объяснений, но и инструментальная способность объяснять происходящее, причем как на уровне отдельного человека, так и в мире социокультурных структур, институтов и отношений. Окно возможностей для этого создают вызовы и риски, идущие вместе с глобализацией и оцифровкой жизни. Но эти или эту возможность нужно уметь использовать.
Еще одно важное направление исследования темы. Как осуществлять мониторинг процессов глобализации и цифровизации? Кто это будет осуществлять? Не секрет, что субъекты, владеющие и управляющие компьютерными сетями, могут это делать в своих интересах или в интересах ТНК, которые оплачивают эти исследования. Здесь вопросов пока больше, чем ответов.
А время торопит. В условиях глобализации сокращается пространство, но при этом – увы – сокращается и время. Оно течет быстрее. Все это сказывается на темпах человеческой жизни, на скорости научно-технического прогресса. Кто не успел, тот навсегда опоздал… И здесь ключевую роль должны сыграть современные университеты. Сопряжение традиционных и новых форм обучения, достойное место университета в региональном (и не только) пространствах… Их роль как ключевых фабрик мысли и современной рефлексии трудно переоценить [Зборовский, Абрамова 2018].
Куда движется глобализация и цифровое общество?
Активное участие России в формировании устойчивого, демократического, опирающегося на международное право миропорядка связано с укреплением ее государственного суверенитета. Это безусловная заслуга президента Владимира Путина и его команды. Но здесь возникает ряд вопросов, от решения которых зависит продолжение этого курса. Современная Россия очень глубоко вошла в мирохозяйственные связи. Целый ряд критических отраслей, в т.ч. связанных с оборонным комплексом, пока тоже не самодостаточны. Мы очень глубоко погрузились в международную цифровую среду и находимся в тесной связи с ней. Не все наши критические производства обеспечены отечественным программным обеспечением. В этой связи возникают масштабные проблемы по созданию соответствующих систем безопасности и собственного программного обеспечения. Представить себе полностью автономную конструкцию цифровизации вряд ли возможно. Но нужен постоянный мониторинг всех этих процессов и оперативное реагирование на возникающие проблемы. «Преобразования миропорядка нельзя добиться, работая только в идеологической и “имиджевой” сферах: нужна последовательная работа по улучшению параметров и повышению показателей развития “реального сектора” (экономической и социальной инфраструктуры, показателей производительности и инновационности). Необходимо реалистическое понимание пределов и ограничителей глобальной роли и влияния нашей страны: в условиях резкого обострения международной ситуации необходим постоянный критический самоанализ и постоянная корректировка собственной политики» [Никитин 2018: 42]. Все-таки теснейшая связь между внутренней и внешней политикой, о которой говорили классики марксизма (и не только они), продолжает действовать и в ХХІ в. В условиях глобализации она только приобретает все более причудливый характер, как, кстати, и государственный суверенитет.
Говоря о перспективах, следует также учитывать смену тренда в сознании россиян. Вектор массового сознания в последнее время показывает озабоченность населения прежде всего внутренними проблемами своей жизни, жизни своего Отечества. Как сокращать угол ножниц между внутренней и внешней политикой в условиях глобализации и серьезного обострения взаимоотношений России с ведущими странами Запада? Вопросов здесь много, но и откладывать их решение тоже нельзя.
Перспективы эволюции современного общества видятся на путях философии разумного минимализма и ухода от моделей количественного роста и истерического потребления. К сожалению, пока это остается благим пожеланием. Глобализация развивается на базе товарно-денежных отношений, часть которых активно стремится виртуализироваться для большинства, но не для тех, кто стоит за этими процессами.
Итак, я постарался привлечь внимание читателей и будущих авторов лишь только к некоторым болезненным точкам рассматриваемой темы. Их, безусловно, больше. Пока мы не можем оценить многие из рисков, которые связаны с глобализацией и цифровым обществом. Задача ученых, экспертов – указать на них, наметить пути минимизации их негативного влияния на человека, общество и миропорядок. Ко всяким революционным процессам нужно адаптироваться, вычленить и использовать их положительные моменты и убрать негативные.
Список литературы Глобализация и цифровое общество: заметки на полях
- Абдрахманов Д.М., Буранчин А.М., Демичев И.В. 2016. Архаизация российских регионов как социальная проблема. Уфа: Мир печати. 404 с
- Зборовский Г.Е., Абрамова П.А. 2018. Университеты, которые могут изменить себя и макрорегион. -Россия реформирующаяся: ежегодник. Вып. 16 (отв.ред. М.К. Горшков). М.: Новый хронограф. С. 373-392
- Карпова Анна Юрьевна 2017. Информационная аномия в политической коммуникации: автореф. дис. … д.соц.н. М. МГИМО(У) МИД России. 46 с
- Кастельс М. 2000. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ. 608 с
- Киссинджер Г. 2018. Как завершается эпоха Просвещения. -Россия в глобальной политике. № 4. Доступ: https://globalaffairs.ru/number/Kak-zavershaetsya-epokha-Prosvescheniya-19658 (проверено 23.01.2019)
- Пелипенко А.А. 2014. Глобальный кризис и судьбы Запада. М.: Знание. 224 с