Глобализация образования XXI века в системной логике евразийского учения о культуре
Автор: Солдатов Владимир Михайлович, Стрельцов Владимир Васильевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры: стратегия культурного развития на евразийском пространстве
Статья в выпуске: 2 (52), 2013 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье, связанной с тематикой VII Международного симпозиума «Вузы культуры и искусства в мировом образовательном пространстве», авторы излагают своё видение проблем глобализации образования в сфере культуры и искусств XXI века. Используя основные идеи евразийского учения о культуре, они предлагают свою версию методологического подхода к их оценке и прочтению, выделяя при этом теологический, антропологический, социальный и натуралистический модусы учения. Через призму этих модусов авторы рассматривают современные тенденции глобализации культуры и образования на примере России. С учётом долгосрочных ориентиров развития культуры и образования в России, изложенных в стратегических нормативно-правовых актах Президента РФ и Правительства РФ, они выявляют имеющиеся в них противоречия и показывают эвристический потенциал евразийского учения о культуре для модернизации российской и евразийской системы образования.
Глобализация, образование, культура, учение, евразия, системность, логика
Короткий адрес: https://sciup.org/14489459
IDR: 14489459 | УДК: 008:39;
Текст научной статьи Глобализация образования XXI века в системной логике евразийского учения о культуре
Современный мир уже немыслим без тех изменений, которые принесла с собой в конце XX века неоднозначная и противоречивая тенденция мирового развития — глобализация. С одной стороны, эти процессы сопряжены с формированием глобальной взаимозависимой мировой экономики, а так называемая информационная «всемирная паутина» всё теснее связывает коммуникациями различные цивилизации, культуры и народы.
С другой стороны, современные процессы мирового развития сопровождаются и противоположными тенденциями, связанными с возрождением национальных культурных традиций, усилением стремления народов сохранить свою духовно-национальную неповторимость, своеобразие и уникальность.
По большому счёту, подобные процессы глобализации мирового развития представляют собой поиск различными страна-
1997–0803 ВЕСТНИК МГУКИ 2 (52) март–апрель 2013 29–35 29
ми и государствами планеты своей новой духовно-национальной (культурной) идентичности с помощью двух альтернативных, но, по сути, взаимосвязанных в реальном культурно-историческом процессе парадигм развития: глобализации и унификации цивилизаций, с одной стороны, и этнокультурной локализации — с другой. Образуя сегодня основную интригу глобализации в образовании и культуре, подобные парадигмы отражают объективный процесс сочетания в них локальных этнокультурных различий и особенностей с транснациональной системой экономических и информационных связей и отношений в мире в контексте роста мировых интегративных тенденций, ведущих к созданию глобального образовательного пространства [6, с. 351—370].
В контексте обсуждения проблем евразийского взаимодействия на VII Международном симпозиуме «Вузы культуры и искусства в мировом образовательном пространстве» значительный интерес для модернизации системы евразийского образования в ХХI веке представляют культурно-мировоззренческие представления евразийцев как продолжателей одной из традиций русской философии. Как известно, они много внимания уделяли исследованию евразийской самобытности русской культуры в качестве мировоззренческой предпосылки культурной (духовно-национальной) идентичности евразийской системы образования в ХХI веке. Во всех трудах они подчеркивали духовную значимость развития евразийских национальных культур, уникальность и необходимость их самобытного развития.
При этом принципиальной идеей евразийского учения о культуре являлась идея необходимости постоянного взаимного обогащения и диалога евразийских народов и стран. В своем учении русские евразийцы, которые внесли наибольший вклад в развитие евразийского движения, опирались на глубокие духовные корни отечественной философской и общественно-политической мысли и пытались определить место России в мировой культуре. В современной ситуации глобализации мирового развития идеи русских евразийцев, сформулированные в 20-е годы ХХ века, не потеряли своего значения и актуальности. По нашему мнению, сегодня можно говорить даже об инновационном возрождении этих идей не только в России и на постсоветском пространстве, но и в рамках евразийского и мирового культурноинформационного пространства в целом.
Не является большим секретом, что многие современные отечественные и зарубежные мыслители (философы, политологи, культурологи, социологи и др.) вновь задают себе вопросы о духовно-национальной (культурной) идентичности своих стран и народов. Они активно занимаются поиском ответов на непростые вопросы глобализации мирового развития, связанные с ростом мировых интегративных тенденций в евразийском образовании, объективными противоречиями между процессами сохранения, возрождения и развития классических традиций национального образования, с одной стороны, и распространением глобальных информационно-коммуникационных связей и технологий в образовательных процессах — с другой.
Предлагая рассматривать философско-мировоззренческое и культурноисторическое наследие евразийцев в качестве стратегического ориентира при разрешении указанного противоречия в современном евразийском образовании, мы хотели бы далее в краткой тезисной форме указать на важнейшие составляющие поиска такой евразийской стратегии в мировом образовательном пространстве. Учитывая ограниченный объём статьи, в методологическом отношении мы взглянем на инновационный потенциал евразийской культуры через призму развиваемой нами концепции духовноинтегрального видения культуры и образования, включающей взаимное дополнение её теологического, антропологического, социального и натуралистического модусов [9]. При этом мы для примера будем сопоставлять представления евразийцев с современными концептуальными и стратегическими
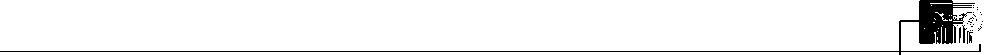
решениями Российского государства в сфере культуры и образования.
Итак, мы начнём наше изложение роли идей русского евразийского движения в модернизации образования с «натуралистической» идеи, за которую евразийцев иногда упрекают в силу того, что в ней материальный момент (география) определяет духовное содержание культуры, которая представляется как бы некоторой «надстройкой» над чисто физической базой. Намекая на привкус марксизма, критики евразийского учения зачастую забывают о том, что евразийцы всегда противопоставляли себя всем натуралистическим или биологическим теориям культуры (экономический материализм, расизм и т.п.). Правда, в то же время они никогда не отрывали «идей» от «материи», не впадали в отвлеченный идеализм, противопоставляя его отвлеченному материализму. Тем самым идеальность и материальность евразийской культуры суть для них диалектические моменты её целостного бытия по аналогии с формой и содержанием, единством и множеством и т.п.
По всей видимости, упрёки евразийцев в натуралистических подходах к культуре были во многом связаны с их акцентированием идеи пространственной целостности евразийского «места развития». Оно обеспечивалось, как известно, географической спецификой Евразии: почти все её реки текут в меридиональном направлении — на юг или на север, а непрерывная степная полоса объединяет и пронизывает ее с запада на восток. Степная полоса, по сути, выступала становым хребтом истории Евразии. Только тот, кто владел степью, легко становился политическим (культурным) объединителем всей Евразии, которым не могло бы выступить государство, возникшее и утвердившееся в том или ином отдельном речном бассейне. Всякое «речное» государство постоянно находилось бы в геополитическом отношении под угрозой и контролем прорезавшей его степи.
К сожалению, надо признать, что подобная культурно-историческая и геополитиче- ская идея «места развития» евразийцев до настоящего времени недостаточно осмыслена российскими и зарубежными специалистами «от культуры», поскольку природные основания и экологические корни культуры в системе современного евразийского образования представлены крайне слабо. Если для примера обратиться к новому Федеральному закону (ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ [11], то в его содержании мы не найдём каких-либо положений о формировании экологической культуры и экологического образования в российском обществе, экологического сознания граждан России. Это выглядит, как минимум, странно, поскольку ранее в президентских основах государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года была поставлена задача формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания [7].
Второй важнейшей идеей евразийского учения о культуре, по нашему мнению, является идея «социального центризма», согласно которой вся общественная жизнь в «государстве правды» должна подчиняться «идее-правительнице», которая обеспечит духовное единство и сплоченность евразийского общества. В этом обществе русская нация не может быть сведена исключительно к славянскому этносу, так как в ее образовании большую роль сыграли тюркские и угро-финские племена, населявшие общее со славянами «место развития» и постоянно взаимодействовавшие с ними. Вместе с тем евразийцы достаточно критически оценивали западноевропейское влияние на отечественную культуру, настаивая на «самобытном» евразийском пути России. Они утверждали, что если до Петра Великого Россия по своей культурно-социальной ориентации могла считаться надёжной продолжательницей Византии, то после вступления «на путь романо-германской ориентации она оказалась в хвосте европейской культуры, на задворках цивилизации» [10].
По мнению евразийцев, в культурно-
социальном плане россиянам необходимо было преодолеть в себе и через себя западного человека, а это возможно только в «исходе к Востоку» [1], поскольку, ставя себя во главу социально-экономического прогресса, западная культура претендует на универсальность, на нравственное превосходство перед другими народами. Поэтому проблемы при глобализации и модернизации евразийского образования по западноевропейским меркам возникают не из-за специфической культуры романо-германского мира, а вследствие его агрессивного отношения к другим культурам, склонности его цивилизации к духовному геноциду, желания мерить всех в мире «на свой аршин». Самобытность же культуры и духовно-национальную её идентичность, как свидетельствует история мировых цивилизаций, нельзя основывать на превосходстве над другими.
Подобная агрессивность романогерманских ценностей рационализма в евразийской культуре и образовании, к восприятию которого генетически и исторически не готовы русские до сих пор, стала особенно заметной в России начиная с 90-х годов ХХ века. В этот период отечественные политики и законодатели «от культуры» стали явно подражательно осваивать западные концепции и модели культуры и образования. Правильно декларируя долгосрочную цель государственной политики в сфере культуры — «развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом» [5, с. 49], в указанном выше новом ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» они почему-то опускают его духовно-культурную планку развития личности и общества до рационально-технократических ценностей Запада по формированию «профессиональных компетенций».
Создаётся также впечатление, что современные либеральные политики и законодатели России забыли «вечные» истины об органическом развитии воспитания и образования подрастающего поколения, возможного только в условиях гармоничного взаимодействия национальных культур, разумного обмена культурными ценностями и их взаимного обогащения в виде межкультурного и межконфессионального диалога между всеми народами и странами мира. Подменяя диалог евразийских культур распространением глобальных информационнокоммуникационных связей и технологий в образовательных процессах, они по ошибке или недоразумению всё более превращают образование в нечто однородное и лишённое духовно-культурных различий по аналогии с либерально-рыночными отношениями, где главными критериями всегда являются деньги и прибыль.
К тому же современные российские либералы, чрезмерно увлекаясь западными технологическими понятиями в образовательном пространстве, отраслевыми объектными подходами и реформами в сферах культуры и образования, фактически до настоящего времени путают в них иерархию субъектов. Так, в России и за рубежом стало уже банальностью и бюрократической привычкой определять в качестве главного субъекта культуры и образования государство или общество [3], тогда как подлинный их субъект — человек (личность) — остаётся либо в тени культурно-образовательной политики, либо на её заднем плане. Для прояснения такой подлинности, нам необходимо обратиться к «антропологической» идее в евразийском учении о культуре, проясняющей высший духовно-субъектный смысл образования.
В нашем понимании, эта идея у евразийцев представлена, прежде всего, как тесная связь понятий «культура» и «субъект», поскольку смысл существования человека и человечества определяется теми культурными ценностями, которые хранит и многообразно изменяет субъект развития. При этом они уточняли, что субъект развития может быть индивидуальным или соборным (симфоническим), признавая тем самым неоднородность субъекта культуры. Но, тем не менее, в первую очередь субъект развития предстает как эмпирический индивид, отдельная личность.
Что же касается «соборного» или «симфонического» субъекта культуры, то он представляет собой всевозможные социальные совокупности людей и выступает как «высшая личность» по отношению к своим отдельным частям. Полнота личности предполагает ее соборность, и одновременно для бытия соборного целого необходима сфера индивидуального бытия [4].
Здесь надо отметить, что евразийскому учению о «симфонической личности» не удалось полностью удержаться в строгих философских рамках как антропологической, так и теологической парадигмы персонализма. Антропологическая парадигма, как известно, охватывает реальное человеческое существование во всей его полноте, определяет место человека как микрокосма в макрокосме и отношение человека к окружающему миру. Теологическая парадигма, в свою очередь, утверждает связь всякого сообщества с личным началом через связь с Церковью (Богом). Однако учение о «соборной личности» и «симфонической личности» евразийцев оперирует этими терминами применительно к любым сообществам и социальным группам, выступая в форме иерархической коллективистской конструкции и социальной органики, лишающей индивидуальное начало самоценного личностного измерения и несводимого содержания и оставляющей за ним лишь функцию выражения вышестоя- щего всеединства.
За непонимание диалектики целого и части применительно к «симфонической личности» евразийцев остро критиковали отдельные русские философы. Так, по мнению Н.А. Бердяева, некоторые мотивы евразийского учения о «симфонической личности» созвучны тональностям тоталитарной идеологии. Он писал в связи с этим: «Учение о симфонической личности означает метафизическое обоснование рабства человека» [2]. И, тем не менее, евразийский концепт «симфонической личности» имеет и эвристическое значение для модернизации евразийского образования. Он может служить, как минимум, эффективным инструментом аналити- ки основных субъектов и участников образовательных отношений: обучающихся, родителей, педагогических работников и организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Такая аналитика позволит гармонично встроить евразийскую «симфоническую личность» в мировое культурнообразовательное пространство.
Наконец, теологическая идея евразийского учения о культуре всегда утверждала Россию-Евразию как уникальный самобытный мир, как идею исторического и культурного единства «континента-океана». Этой идеей евразийцы утверждали примат России как носительницы религиозной, православной культуры в мире, ибо, на их взгляд, православие представляет собой самый чистый вид подлинного христианства. Они утверждали, что культура России не есть ни культура европейская, ни азиатская, ни механическое сочетание элементов той и другой. По их мнению, волею судеб Россия унаследовала традицию византийской культуры, традицию монгольской цивилизации, церковнославянскую литературно-языковую традицию, но все эти унаследованные Россией традиции только тогда становились русскими, когда сопрягались с православием [8].
Проецируя эту идею на преобразования в СССР, евразийцы указывали на неумение большевиков осознать, понять и увидеть самобытный путь развития для России, по- скольку они не только расчленили исконно евразийское территориальное единство России, но и, руководствуясь воинствующим атеизмом западнического прагматического мышления, варварски разрушали духовные основы русской бытовой, социальной и государственной жизни. Русские евразийцы считали, что по духовно-мистическому укладу Россия ближе к Востоку, в то время как Запад породил институты, которые отделили духовную и религиозную жизнь страны от светских её характеристик. Тем самым их мысль о замкнутом пространстве, носящем название «Россия-Евразия» являлась центральным тезисом, на основе которого они провозглашали существование особой евра-

зийской русской культуры.
Конечно, мы не склонны излишне как переоценивать, так и недооценивать эвристический и инновационный потенциал евразийского учения о культуре для модернизации образования в ХХI веке. Его основные идеи и положения были сформулированы русскими евразийцами в исторический период, когда о глобализации образования мало кто задумывался, хотя и говорилось об интернационализации общественно-политической жизни в мире. Как и любое учение, оно с течением времени нуждается в новом мировоззренческом прочтении и практическом осмыслении. Поэтому в заключение мы хотели бы без подробного обоснования представить в предельно сжатом виде нашу системную модель духовно-интегрального видения и понимания культурной идентичности евразийского образования в условиях глобализации мирового развития.
Данная модель включает следующие духовно-национальные идеалы и ценности евразийской культуры, выступая в виде универсального фундаментального каркаса культурной идентичности евразийского образования:
-
• духовно-национальные идеалы и ценности Патриотизма, Родины и Героизма, характеризующие культурно-историческую идентичность евразийского образования в том или ином региональном «месте развития» Евразии;
-
• духовно-национальные идеалы и ценности Истины, Разума и Самосознания личности, определяющие человечное измерение культурно-гуманистической идентичности евразийского образования;
-
• духовно-национальные идеалы и ценности Добра, Любви и Справедливости, отра-
- жающие социальное измерение культурнонравственной идентичности евразийского образования;
-
• духовно-национальные идеалы и ценности Красоты, Гармонии и Равновесия, выступающие основой культурно-экологической идентичности евразийского образования и формирования культурно-экологической среды;
-
• духовно-национальные идеалы и ценности Взаимопомощи, Согласия и Милосердия, формирующие культурно-социальную идентичность евразийского образования;
-
• духовно-национальные идеалы и ценности Единства, Мира и Солидарности, определяющие культурно-геополитическую идентичность евразийского образования;
-
• духовно-национальные идеалы и ценности Свободы, Демократии и Равноправия, отражающие культурно-политическую идентичность евразийского образования.
По нашему мнению, такой системный подход к видению и пониманию духовнонациональной (культурной) идентичности евразийского образования в достаточно полной мере отвечает мировоззренческим и практическим потребностям евразийских стран и народов в условиях глобализации мирового развития. Представленный в его основании перечень национальных и общечеловеческих духовных идеалов и ценностей евразийской культуры не является исчерпывающим, поскольку в значительной мере отражает авторское видение и понимание. Надеемся, что в ходе плодотворной и заинтересованной дискуссии на симпозиуме по проблемам евразийского взаимодействия подобные идеалы и ценности евразийской культуры получат своё дальнейшее уточнение и творческое осмысление.


