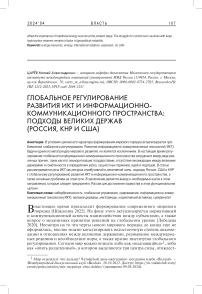Глобальное регулирование развития ИКТ и информационно-коммуникационного пространства: подходы великих держав (Россия, КНР и США)
Бесплатный доступ
В условиях кризисного характера формирования мирового порядка актуализируется проблематика глобального регулирования. Развитие информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), будучи одним из мегатрендов мирового развития, не является исключением. В настоящее время регулирование глобального информационно-коммуникационного пространства затруднено ввиду ряда различных причин, таких как его секьюритизация государствами, отсутствие аккомодации между великими державами и гомогенности в определении угроз, сущностных терминов, идей и подходов. В статье рассматривается роль ИКТ как ресурса атрибутивной и релятивной силы, подходы России, США и КНР к глобальному регулированию развития ИКТ и информационно-коммуникационного пространства, а также основные проблемы на этом пути. В заключение делается вывод о необходимых шагах в этом направлении, которые следует предпринять России для достижения лидерства в этом функциональном «досье».
Кибербезопасность, глобальное управление, сдерживание, информационно-коммуникационные технологии (икт), великие державы, мегатренды, нормативный активизм, суверенитет
Короткий адрес: https://sciup.org/170206272
IDR: 170206272 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-4-107-114
Текст научной статьи Глобальное регулирование развития ИКТ и информационно-коммуникационного пространства: подходы великих держав (Россия, КНР и США)
Внастоящее время происходит формирование современного мирового порядка [Шаклеина 2022]. На фоне этого актуализируется нормативный и коммуникационный аспекты взаимодействия между субъектами, а также вопрос о механизмах принятия решений на глобальном уровне [Лебедева 2020]. Несмотря на то что черты нового мирового порядка до конца еще не оформились, вполне можно констатировать недостаточную степень аккомодации в отношениях между великими державами, размывание международных режимов и несоблюдение норм, а также кризис институтов глобального регулирования. Сегодня мир можно описать либо как «осыпавшийся»1, либо как «опять разделенный», в котором выделяются три центра силы, отождест- вленные тремя великими державами – Россией, США и КНР [Богатуров 2020: 10].
ИКТ: от инструмента «коммуникации во благо» до ресурса «войн будущего»
С развитием информационно-коммуникационных и цифровых технологий (ИКТ) изменилось само пространство международных отношений: из трехмерного (суша, вода и воздух) оно трансформировалось в четырехмерное (киберпространство/информационная сфера1). И если в начале его активного освоения (1990-е гг.) оно рассматривалось как неподконтрольное государствам, то уже в нулевых годах постепенно стало приходить понимание, что оно имеет свои политические границы, отражающие существующую карту мира [Зиновьева 2015: 112]. Глобальное регулирование этого пространства становится прерогативой национальных государств [Drezner 2004], поскольку информационные технологии рассматриваются как проблема обеспечения их национальной безопасности.
Если на заре развития ИКТ и становления понимания информационного пространства как «коммуникационного» виделась возможность междержавной кооперации в информационной среде для достижения общего блага, то в дальнейшем данная среда стала рассматриваться как потенциально конфликтная, включенная в пространство войны [Истомин 2022: 105; Конышев 2022: 186], в которой возникают и развиваются различные типы кибер-/ кибернетических/кибернетизированных ( cybered ) конфликтов [Demchak 2020] как внутри национальных государств (в т.ч. в результате вмешательства извне), так и между ними. Складывается дихотомия, в рамках которой ИКТ рассматриваются как обоюдоострый меч: усиливая то или иное государство и позволяя ему стать лидером, они одновременно становятся орудием для нанесения ему вреда со стороны тех, кто стремится его разрушить2. Эти технологии также рассматриваются с точки зрения их возможного двойного и военного назначения, в т.ч. как инструмент ведения гибридных войн [Конышев, Парфенов 2019], и одной из особенностей природы и методов ведения «войн будущего» [Сучков, Тэк 2019]. Более того, угрозы и вызовы в информационном и киберпространстве стали восприниматься через призму обеспечения безопасности ядерного комплекса государств [Футтер 2016]. Закономерным итогом стала милитаризация глобального информационного пространства [Зиновьева 2015: 114-115], а информационно-коммуникационные и цифровые технологии стали ресурсом как атрибутивной, так и релятивной силы.
Причины кризиса глобального регулирования информационно-коммуникационного пространства
В настоящее время эффективное глобальное регулирование информационно-коммуникационного пространства отсутствует по нескольким причинам.
Во-первых, как уже упоминалось выше, в настоящее время наблюдается недостаточная степень аккомодации между тремя ключевыми великими державами. Во-вторых, каждая из великих держав стремится предложить свое видение будущего мирового устройства и глобального регулирования. Такие попытки нередко направлены на обретение статуса лидера/гегемона, сдержи- вание других держав, программирование системы международных отношений на междержавную конкуренцию. Особенно это характерно для внешнеполитической деятельности США [Шаклеина 2020]. В-третьих, по-прежнему сохраняется дискурс относительно того, стоит ли передавать больше полномочий на уровень глобальных институтов или идти по пути укрепления роли национальных государств в различных сферах [Сафранчук, Лукьянов 2021а: 15]. Для современного состояния системы международных отношений характерны опасения государств относительно углубления взаимозависимости, которая воспринимается как средство вмешательства во внутренние дела, а также «суверенизация повесток», являющаяся как инструментом обретения собственных выгод, так и средством конкуренции с другими игроками, в результате чего подрывается доверие между ними, и достижение баланса сил и гомогенизация идей становятся невозможными [Сафранчук, Лукьянов 2021б: 57, 66-67].
В и дение глобального регулирования информационно-коммуникационного пространства отличается у трех держав. ИКТ обретают еще одну грань – они становятся ресурсом нормативной силы государств.
Подходы великих держав
Россия подразумевает под таким пространством «информационную среду/ пространство» (отсюда термин «информационная безопасность»)1, а США – «киберпространство» («кибербезопасность»)2. Понимание пространства Китаем можно описать как «сетевое пространство» [Понька, Рамич, У 2020: 384] («сетевая безопасность»3). В то же время достаточно распространенным термином в китайских документах остается «информационная среда» [Creemers 2024: 175] и «информационная безопасность»4 [Понька, Рамич, У 2020: 384]. Также встречаются термины «цифровая сфера»5 и «кибербезопасность»6. Отличаются и подходы государств к глобальному регулированию информационного пространства.
Россия выступает с позиции необходимости институционализации информационной сферы, признания всеми игроками существования национальных сегментов информационного пространства и принципа суверенитета наци- ональных государств над своей частью пространства, означающего невмешательство при помощи ИКТ во внутренние дела суверенных государств. Более того, российский подход не только затрагивает проблематику безопасности компьютерных систем и иных средств связи, но также рассматривает политико-идеологические аспекты безопасности и направлен на обеспечение безопасности социально-гуманитарного развития общества. По мнению России, интернационализированное глобальное регулирование информационного пространства – ключ к кооперационной модели существования государств. Россия в 2004 г. выступила инициатором создания Группы правительственных экспертов ООН (ГПЭ), на базе которой в 2018 г. вновь по предложению России была создана Рабочая группа открытого состава (РГОС). Создание РГОС было обусловлено возникновением во второй половине 2010-х гг. серьезных противоречий между членами ГПЭ [Шакиров 2021] по вопросу применения международного права относительно действий держав в информационном/киберпространстве. Но несмотря на принятие в 2021 г. доклада РГОС, ставшего символом «триумфального успеха российской дипломатии»1, и упразднение параллельно возрожденного США формата ГПЭ, по-прежнему затруднено внедрение принятых предложений и норм в реальную практику. На это есть как минимум две принципиальные причины. Во-первых, между странами по-прежнему отсутствует единая позиция относительно механизмов применения международного права в информаци-онном/киберпространстве. Во-вторых, ООН не является инструментом глобального регулирования (необходимыми атрибутами обладает лишь Совет Безопасности) [Худайкулова 2022: 62, 63].
Китай выступает с позиции многосторонней централизованной модели [Дегтерев, Рамич, Пискунов 2021: 21], суть которой заключается в распространении суверенитета2 государства в вопросах, относящихся к глобальному регулированию информационного/интернет-пространства [Ребро и др. 2021: 55] (роль негосударственных акторов сводится лишь к консультативной функции). Китай в своей внешнеполитической стратегии рассматривает «традиционные международные институты», например систему ООН, как структуру, в которой он не может достичь лидирующей роли и конструктивного сотрудничества с другими державами, считая, что его интересы не будут удовлетворены в результате ограничительных действий других влиятельных игроков. Это объясняется тем, что они создавались в то время, когда Китай еще не был одним из системообразующих акторов. Следовательно, в них он видит свою роль в качестве «участника», действия которого лишь направлены на поддержку этих институтов. Это, впрочем, вовсе не означает, что его роль в них в качестве «участника» выработки глобальных норм и создания международных режимов не будет активной. Напротив, в «модифицированных», или «улучшенных», а тем более в «инновационных» международных институтах (ШОС+, БРИКС+), созданных, когда Пекин уже стал одной из ключевых глобальных держав, влияющей на систему международных отношений, он видит свою роль в качестве «созидателя», «лидера» и «направляющего» [Грачиков, Сюй 2022: 17, 18]. Поэтому предполагается, что именно эти институты Китай будет рассматривать как перспективные для своей нормативной деятельности и активизации сотрудничества в области глобального регулирования развития ИКТ и информационно-коммуникационного пространства.
США рассматривают глобальное регулирование киберпространства как децентрализованную модель [Дегтерев, Рамич, Пискунов 2021: 21], основную роль в которой играют частные структуры (на которые, впрочем, могут оказывать влияние американские власти, т.е. речь идет о государственночастном режиме управления, или принципе мультистейкхолдерности). Что касается категории суверенитета, то она по-прежнему не употребляется в американских документах, предназначенных для глобального уровня. Это может интерпретироваться как «желание распространить нормы и практики внутренней политики США на своих союзников» [Зиновьева, Шитьков 2023: 47]. Это вовсе, однако, не означает, что США не секьюритизируют эту проблематику (например, они вводят рестриктивные меры в отношении иностранных цифровых платформ). США заинтересованы в экстратерриториальном глобальном регулировании, т.е. расширении собственной юрисдикции «на международный уровень системы Интернета в целом», что позволит им ограничить суверенитет других держав и укрепить свой статус гегемона-лидера [Зиновьева 2022: 14]. Таким образом, для них неприемлем российский и китайский подходы, поскольку они видят в них укрепление примата государственного контроля над киберсредой. В области обеспечения кибербезопасности Вашингтон институционализирует сотрудничество со странами НАТО. США продвигают Группу независимых экспертов под эгидой НАТО, ключевым проектом которой является Таллинское руководство, целью которого стало регулирование киберпространства с точки зрения международного гуманитарного права. На сегодняшний день Руководство уже охватывает два принципиальных вопроса – jus ad bellum и jus in bello, давая понять, что США рассматривают киберпространство как настоящий театр военных действий. Более того, США в своих стратегических документах отмечают, что на кибератаки они будут «реагировать всеми соответствующими инструментами национальной мощи»1. В целом, стратегия США в киберсреде направлена на сдерживание России и Китая [Себекин 2023], что не только мешает конструктивному диалогу между великими державами, но и «обостряет дилемму безопасности» [Зиновьева 2019: 59].
В рамках глобального регулирования в области информационно-коммуникационных и цифровых технологий заметны те же тенденции, которые характерны для многих других сфер: постепенное смещение акцента на «два конкурирующих мирорегулирующих блока («глобальное НАТО» и «ШОС+») [Худайкулова 2022: 63], а также повышение статуса БРИКС+. В настоящее время отсутствие международного режима со своими работающими институтами во многом является следствием нежелания США лишать себя особого положения в этом функциональном «досье». Все это не ведет к снижению конфликтности между игроками на международной арене и элиминации глобальных угроз в информационной и цифровой среде.
Заключение
На этом фоне возможным положительным сценарием для России может стать углубление взаимодействия в рамках данной проблематики с Китаем, а также с Индией, Бразилией и другими заинтересованными державами в рамках ООН, ШОС+, БРИКС+, ОДКБ и других глобальных и региональных форматов, альтернативных западным институтам. Иными словами, России крайне важно сохранить гибкость, рационализм и инклюзивность своего подхода по формированию всеобъемлющего и универсального международно-правового режима регулирования информационно-коммуникационного пространства. Для этого России необходимо продолжать активно выступать на международной арене в качестве нормативного актора, манифестируя свои намерения в рамках глобального публичного пространства.
Помимо дискурсивных практик, не менее важным для России является онтологическое наполнение ее цифрового суверенитета. В существующих реалиях экономического давления западных стран и их попыток сдержать ее технологическое развитие добиться этого становится весьма нетривиальной задачей. Однако достижение ощутимых результатом в рамках этой деятельности, на наш взгляд, будет являться стратегической целью для России, поскольку от этого будет зависеть ее развитие и ее мощь.
Цифровой и технологический суверенитет России позволит ей помешать складыванию американо-китайской дуополии в информационном/сетевом/ киберпространстве. Заключение двусторонних и многосторонних договоров в области обеспечения региональной и глобальной информационной безопасности позволит ей не допустить своей изоляции и сдерживания со стороны какой-либо державы.
Активная и самостоятельная политика России на этом направлении будет встречать критику и, возможно, даже неприятие со стороны стран Запада. В то же время именно независимость внешней политики России и стремление развивать глобальное регулирование в области информационно-коммуникационных и цифровых технологий в логике кооперации с другими государствами с целью построения инклюзивного (справедливого) и равноправного для национальных государств и суверенного для каждого из них коммуникационного пространства будет укреплять роль Москвы как ответственной великой державы, позволяя ей продвигаться на пути лидерства как минимум в этом функциональном «досье» глобального регулирования, оказывающего влияние на формирование нового мирового порядка.
Список литературы Глобальное регулирование развития ИКТ и информационно-коммуникационного пространства: подходы великих держав (Россия, КНР и США)
- Богатуров А.Д. 2020. Введение. Попытка построения «однополярной безопасности» и современная трехполюсная система. - Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980—2018: учебное пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт. С. 10-17. EDN: WFDKWR.
- Грачиков Е.Н., Сюй Х. 2022. КНР и международная система: формирование собственной модели мироустройства. — Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. Т. 17. № 1. С. 7-24. DOI: 10.17323/19967845-2022-01-01. EDN: ZDZJNP.
- Дегтерев Д.А., Рамич М.С., Пискунов Д.А. 2021. Подходы США и КНР к глобальному управлению киберпространством: «новая биполярность» в «сетевом обществе». — Вестник международных организаций: образование,
- наука, новая экономика. Т. 16. № 3. С. 7-33. DOI: 10.17323/1996-7845-2021-03-01. EDN: RHBSFR.
- Зиновьева Е.С. 2015. Глобальное управление Интернетом: российский подход и международная практика. - Вестник МГИМО Университета. № 4(43). С. 111-118. DOI: 10.24833/2071-8160-2015-4-43-111-118. EDN: UDUNML.
- Зиновьева Е.С. 2019. Киберсдерживание и цифровая дилемма безопасности в американском экспертном дискурсе. - Международные процессы. Т. 17. № 3(58). С. 51-65. DOI 10.17994ДГ.2019.17.3.58.4. EDN: ЕУКР1А.
- Зиновьева Е.С. 2022. Формирование цифровых границ и информационная глобализация: анализ с позиций критической географии. - Полис. Политические исследования. № 2. С. 8-21. DOI: 10.17976/]рр8/2022.02.02. EDN: AJDIQL.
- Зиновьева Е.С., Шитьков С.В. 2023. Цифровой суверенитет в практике международных отношений. - Международная жизнь. № 3. С. 38-51. EDN: HBTQYT.
- Истомин И.А. 2022. Войны будущего в свете опыта прошлого. - Мировая экономика и международные отношения. Т. 66. № 11. С. 101-114. DOI: 10.20542/0131-2227-2022-66-11-101-114. EDN:
- Конышев В.Н. 2022. Изучая природу войны: взгляд из России и Европы. -Полис. Политические исследования. № 6. С. 182-188. DOI: 10.17976/ jppsZ2022.06.13. EDN: MIYBGV.
- Конышев В.Н., Парфенов Р.В. 2019. Гибридные войны: между мифом и реальностью. - Мировая экономика и международные отношения. Т. 63. № 12. С. 56-66. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-12-56-66. EDN: ^ТЪН1.
- Лебедева М.М. 2020. Новый мировой порядок: параметры и возможные контуры. - Полис. Политические исследования. № 4. С. 24-35. DOI: 10.17976/ jpps/2020.04.03. EDN: DNORYR.
- Понька Т.И., Рамич М.С., У Ю. 2020. Информационная политика и информационная безопасность КНР: развитие, подходы и реализация. -Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Международные отношения. Т. 20. № 2. С. 382-394. DOI: 10.22363/2313-0660-2020-20-2-382394. EDN: UANODL.
- Ребро О.И., Гладышева А., Сучков М.А., Сушенцов А.А. 2021. Категория «Цифрового суверенитета» в современной мировой политике: вызовы и возможности для России. - Международные процессы. Т. 19. № 4(67). С. 47-67. DOI: 10.17994/1Т.2021.19.4.67.6. EDN: QPXXVU.
- Сафранчук И.А., Лукьянов Ф.А. 2021а. Современный мировой порядок: адаптация акторов к структурным реалиям. - Полис. Политические исследования. № 4. С. 14-25. DOI: 10.17976/jpps/2021.04.03. EDN: JVPZJB.
- Сафранчук И.А., Лукьянов Ф.А. 2021б. Современный мировой порядок: структурные реалии и соперничество великих держав. - Полис. Политические исследования. № 3. С. 57-76. DOI: 10.17976/jpps/2021.03.05. EDN: ХОУБК.
- Себекин С.А. 2023. Система международной информационной безопасности в условиях политической турбулентности. - Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. Т. 16. № 2. С. 170190. DOI: 10.21638ДрЬи06.2023.205. EDN: JQHKPU.
- Сучков М.А., Тэк С. 2019. Будущее войны: доклад международного дискуссионного клуба «Валдай». - МДК«Валдай». 24 с. EDN: JZOFUG.
- Футтер Э. 2016. Ядерное оружие в век информационных технологий. -Россия в глобальной политике. Т. 14. № 6. С. 146-159. EDN: XAELEH.
- Худайкулова А.В. 2022. К вопросу о глобальном управлении в XXI в.: подходы РФ, КНР и США. - Социальные и гуманитарные знания. Т. 8. № 1(29). С. 56-69. DOI: 10.18255/2412-6519-2022-1-56-69. EDN: CYFJSX.
- Шакиров О.И. 2021. Широкий киберконсенсус. - Российский совет по международным делам. 23.03.2021. Доступ: https://russiancouncil.ru/analyt-ics-and-comments/analytics/shirokiy-kiberkonsensus/?sphrase_id=131721305 (проверено 18.06.2024).
- Шаклеина Т.А. 2020. Политика США в отношении России: конкуренция, сдерживание и управление. - Вестник РГГУ. Сер. Политология. История. Международные отношения. № 4. С. 10-26. DOI: 10.28995/2073-6339-2020-410-26. EDN: FOEVRX.
- Шаклеина Т.А. 2022. Переломный момент в мировом развитии. Сохранит ли Запад преобладающее влияние на формирование мирового порядка XXI века? - Международные процессы. Т. 20. № 4(71). С. 6-22. DOI: 10.17994/ IT.2022.20.4.71.2. EDN: IGCAUV.
- Creemers R. 2024. The Chinese Conception of Cybersecurity: A Conceptual, Institutional, and Regulatory Genealogy. - Journal of Contemporary China. Vol. 33. Is. 146. P. 173-188. DOI: 10.1080/10670564.2023.2196508.
- Demchak C.C. 2020. Cybered Conflict, Hybrid War, and Informatization Wars. -Routledge Handbook of International Cybersecurity. Routledge. P. 36-51.
- Drezner D.W 2004. The Global Governance ofthe Internet: Bringing the State Back in. - Political Science Quarterly. Vol. 119. Is. 3. P. 477-498. DOI: 10.2307/20202392.