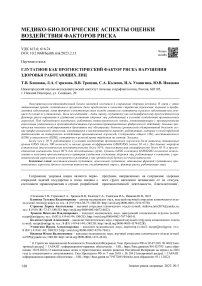Глутатион как прогностический фактор риска нарушения здоровья работающих лиц
Автор: Блинова Т.В., Страхова Л.А., Трошин В.В., Колесов С.А., Умнягина И.А., Иванова Ю.В.
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска
Статья в выпуске: 2 (42), 2023 года.
Бесплатный доступ
Окислительно-восстановительный баланс является ключевым в сохранении здоровья человека. В связи с этим оптимизация уровня глутатиона в организме была предложена в качестве стратегии укрепления здоровья и профилактики заболеваний, хотя причинно-следственная связь между статусом глутатиона и риском заболевания или лечением до конца не установлена. Цель исследования - дать оценку глутатиону как неспецифическому прогностическому фактору риска нарушения и ухудшения состояния здоровья лиц, работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей. Под наблюдением находились: работники металлургического завода, контактирующие с промышленными аэрозолями (сварочными и кремнийсодержащими аэрозолями преимущественно фиброгенного действия); больные хроническим пылевым необструктивным бронхитом вне обострения; больные хронической обструктивной болезнью легких профессиональной этиологии, находившиеся в постконтактном периоде; работающие, которые в своей трудовой деятельности не подвергались воздействию промышленных аэрозолей. Содержание общего (ТG), восстановленного (GSН) и окисленного (GSSG) глутатиона в цельной крови определяли по методу Эллмана. Более чем у 50 % работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей были выявлены повышенные уровни GSSG (более 100 мкмоль/л) и низкие уровни коэффициента GSН/GSSG (менее 10 ед.). Для данных маркёров установлена диагностическая чувствительность более 50 %, диагностическая специфичность более 85 % и прогностическая значимость более 80 % для обследованных групп. Уровень GSSG и величину GSН/GSSG возможно использовать в качестве прогностического критерия ухудшения состояния здоровья лиц, работающих в контакте с промышленными аэрозолями и возможного развития у них хронической бронхо-легочной патологии.
Восстановленный глутатион, окисленный глутатион, отношение фракций глутатиона, промышленные аэрозоли, бронхолегочная патология, оксидативный стресс, фактор риска, работающие лица
Короткий адрес: https://sciup.org/142239894
IDR: 142239894 | УДК: 613.6, | DOI: 10.21668/health.risk/2023.2.13
Текст научной статьи Глутатион как прогностический фактор риска нарушения здоровья работающих лиц
Блинова Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического отдела (е-mail: ; тел.: 8 (915) 944-38-75; ORCID: .
Страхова Лариса Анатольевна – научный сотрудник клинического отдела (е-mail: ; тел.: 8 (910) 381-72-47; ORCID: .
Трошин Вячеслав Владимирович – кандидат медицинских наук, заведующий клиническим отделом (е-mail: ; тел.: 8 (831) 419-61-94; ORCID: .
Колесов Сергей Алексеевич – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник клинического отдела (е-mail: ; тел.: 8 (831) 419-61-94; ORCID: .
Умнягина Ирина Александровна – кандидат медицинских наук, директор (е-mail: ; тел.: 8 (831) 419-61-94; ORCID: .
Иванова Юлия Валентиновна – кандидат медицинских наук, научный сотрудник клинического отдела (e-mail: ; ORCID: .
Большое внимание уделяется состоянию здоровья людей трудоспособного возраста, работающих во вредных условиях труда [1]. В этом случае ключевую роль играют предварительные и периодические медицинские осмотры, одна из задач которых – выявление ранних признаков профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний. Своевременному раннему выявлению заболеваний помогают биомаркеры – количественные показатели состояния здоровья человека. Биомаркер может явиться индикатором риска и развития заболевания, диагностики и эффективности лечения.
Одним из таких маркеров является биохимический маркер глутатион. Несмотря на то, что изучение структурно-функциональных взаимоотношений в системе глутатиона идет десятки лет, многие вопросы, касающиеся функции глутатиона в норме и при патологии, требуют углубленного исследования.
Глутатион является основным внутриклеточным антиоксидантом, который удаляет активные формы кислорода и азота неферментативным или ферментативным путем. Внутриклеточный глутатион существует в виде мономера в восстановленной форме (GSH) и в виде дисульфидного димера – в окисленной форме (GSSG), которая образуется после окисления GSH. Восстановленная и окисленная формы глутатиона представляют собой основной окислительно-восстановительный буфер клетки. В физиологических условиях наблюдаются более высокие концентрации GSH по сравнению с GSSG. Соотношение фракций GSH / GSSG рассматривается некоторыми авторами как маркер оксидативного стресса (ОС) [2]. Дефицит GSH или снижение соотношения GSH / GSSG в значительной степени свидетельствует об ОС и сниженной антиоксидантной способности клеток, повышенные уровни GSH говорят об усилении антиоксидантной способности и устойчивости к ОС [3]. Исследования фракций глутатиона показали, что у здоровых людей соотношение «GSH / GSSG» составляет около 10:1, а уменьшение соотношения является маркером оксидатив-ного стресса [4].
Функции глутатиона очень разнообразны. Глутатион предотвращает окислительное повреждение клеток, усиливает функции иммунной системы, участвует в посттрансляционной модификации белков, принимает участие в синтезе и восстановлении ДНК, в клеточной пролиферации, дифференцировке и регуляции клеточной гибели, включая пути апоптоза. Глутатион играет важную роль в процессе неферментативного глутатионилирования белков, регулируя тем самым структуру и функцию белка, изменяя форму, заряд и размер белка-мишени, защищает белки от дальнейшего необратимого пере-окисления [5].
Нарушения в системе глутатиона отмечены при многих заболеваниях. Снижение уровня восстановленного и увеличение окисленного глутатиона были выявлены при сахарном диабете, инсульте, артериальной гипертензии, после операций на сердце, при неврологических заболеваниях, шизофрении, болезни Альцгеймера [6–9]. Снижение GSH и увеличение фракции GSSG наблюдались при многих заболеваниях легких: хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, идиопатическом легочном фиброзе, кистозном фиброзе, остром респираторном дистресс-синдроме [10, 11]. Установлено, что окислительно-восстановительный баланс является ключевым в сохранении здоровья человека. В связи с этим оптимизация уровня глутатиона в организме была предложена в качестве стратегии укрепления здоровья и профилактики заболеваний, хотя причинно-следственная связь между статусом глутатиона и риском заболевания или лечением до конца не установлена [12]. Учитывая множество ролей, которые играет GSH, трудно установить причинно-следственную связь между изменениями уровня GSH и развитием того или иного заболевания [13].
В систему глутатиона входит ряд ферментов, осуществляющих важные антиоксидантные функции. Глутатионпероксидазы обезвреживают перекись водорода и восстанавливают окисленные липиды [14]. Глутатионредуктаза восстанавливает окисленный глутатион (GSSG) и поддерживает в клетках постоянный уровень восстановленного глутатиона (GSH) [15]. Глутатион-S-трансферазы защищают клетки от воздействия окружающей среды за счет функции детоксикации, катализируя процесс конъюгации GSH [16].
В неблагоприятных условиях система глутатиона направлена на сохранение гомеостаза организма путем работы его ферментных систем, ориентированных на сохранение сбалансированного взаимоотношения между его отдельными фракциями – окисленная форма глутатиона быстро переходит в восстановленную, система глутатиона снова восстанавливается и осуществляет свою антиоксидантную функцию. При воздействии неблагоприятных факторов окружающей и производственной среды (загрязненная атмосфера, табачный дым, радиация, химические соединения производственной среды, промышленные аэрозоли, шумовое воздействие, соединения, попадающие в организм с пищей, и т.д.) в избыточном количестве образуются свободные радикалы [17, 18]. По результатам, полученным рядом исследователей, вредные производственные факторы способствуют нарушению сбалансированной работы оксидантных и антиоксидантных систем [6, 7]. При избыточном образовании свободных радикалов и нарушениях в системе свободнорадикального окисления антиоксидантная функция глутатиона может быть нарушена, что проявляется в конечном счете в избыточном образовании его окисленной формы и снижении восстановленной. Обобщая данные многочисленных исследований, можно утверждать, что сбой в системе глутатиона отрицательно сказывается на течении и прогнозе уже имеющихся различных заболеваний и может способствовать возникновению новых патологий различного генеза.
Цель исследования – дать оценку глутатиону как неспецифическому прогностическому фактору риска нарушения и ухудшения состояния здоровья лиц, работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 245 человек. Обследуемые были разделены на пять групп:
1-я группа (контроль) – практически здоровые лица, работающие в разных сферах производства, которые в своей трудовой деятельности не подвергались воздействию промышленных аэрозолей (работники рекламного агентства, менеджеры, работники офисов и бухгалтерии) (44 человека – мужчины в возрасте 57 (53–59) лет, стаж работы – 13,9 ± 8,5 г.).
2-я группа – практически здоровые лица, работающие на металлургическом заводе Нижегородской области (55 человек – мужчины в возрасте 52 (47–54) лет, стаж работы – 13,8 ± 7,7 г.), которые подвергались преимущественному воздействию сварочных и кремнийсодержащих аэрозолей по большей части фиброгенного действия (электрогазосварщики, стропальщики, резчики металла, фрезеровщики, вальцовщики), не имеющие функциональных признаков нарушения легочной вентиляции.
3-я группа – практически здоровые лица, работающие на металлургическом заводе Нижегородской области (39 человек – мужчины в возрасте 51 (45–55) года, стаж работы – 13,3 ± 7,5 г.), которые подвергались преимущественному воздействию сварочных и кремнийсодержащих аэрозолей по большей части фиброгенного действия (электрогазосварщики, стропальщики, резчики металла, фрезеровщики, вальцовщики), имеющие функциональные признаки нарушения легочной вентиляции.
4-я группа – стажированные работники автомобилестроительного предприятия г. Нижнего Новгорода, больные хроническим пылевым необструктивным бронхитом (пХНБ) вне обострения, вызванным длительным воздействием сварочных и кремнийсодержащих аэрозолей преимущественного фиброгенного действия, которые находились в постконтактном периоде и наблюдались в терапевтической клинике ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора (29 человек (14 мужчин и 15 женщин) в возрасте
59 (55–60) лет, стаж работы во вредных условиях – 27,8 ± 8,0 г.).
5-я группа – стажированные работники автомобилестроительного предприятия г. Нижнего Новгорода, больные хронической обструктивной болезнью легких профессиональной этиологии (пХОБЛ) стабильного течения, вызванной длительным воздействием сварочных и кремнийсодержащих аэрозолей преимущественного фиброгенного действия, находившиеся под наблюдением в клинике ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора (78 человек (12 женщин и 66 мужчин) в возрасте 59 (58–63) лет, стаж работы во вредных условиях – 26,0 ± 8,0 г.).
Из исследования были исключены лица с острыми инфекционными заболеваниями, злокачественными образованиями, сахарным диабетом, обострениями хронических заболеваний.
Работа была выполнена с информированного согласия пациентов на участие в нем и одобрена локальным этическим комитетом ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора.
Данные об условиях труда для работающих 2-й и 3-й групп предоставлялись работодателем в соответствии с ФЗ № 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда»2. Согласно данной оценке среднесменные значения пыли с содержанием дижелеза триоксида на разных участках колебались от 0,65 до 7,2 мг/м3 (при ПДК 6,0 мг/м3), диоксида кремния (при содержании пыли от 10 до 70 %) – от 0,44 до 2,4 мг/м3 (ПДК 2,0 мг/м3), электрокорунда – от 1,8 до 6,6 мг/м3 (ПДК 6,0 мг/м3). Среднесменные концентрации диоксида кремния, электрокорунда и дижелеза триоксида в воздухе рабочих мест превышали ПДК в 1,1–1,2 раза. Класс условий труда 3.1 («вредный» первой степени).
Диагноз ХОБЛ был поставлен на основании критериев Глобальной стратегии по диагностике и лечению ХОБЛ (Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease – GOLD, 2021) [19] и Федеральных клинических рекомендаций Российского респираторного общества [20]. Диагноз пХНБ был установлен на основании критериев Национального руководства3. Диагноз профессионального заболевания был установлен в соответствии с «Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967)4 и приказом Минздравсоцразвития России от 27 апреля 2012 г. № 417н
«Об утверждении перечня профессиональных за-болеваний»5.
У всех обследованных изучалась функция внешнего дыхания при помощи спирометра Spirolab III OXY (Италия) с оценкой следующих параметров: форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ, % должн ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ 1 , % должн ), расчетное соотношение этих параметров (ОФВ 1 / ФЖЕЛ, %) – модифицированный индекс Тиффно (МИТ) и максимальная объемная скорость выдоха на уровне 75 % ФЖЕЛ (МОС 75 %).
У всех обследуемых определяли концентрацию общего глутатиона (ТG), восстановленного (GSН) и окисленного (GSSG) в цельной крови по методу Эллмана [21]. После забора образцы крови помещались в лед, затем замораживались при температуре минус 70–80 °С. Центрифугирование образцов на всех этапах анализа проходило при 4 °С в предварительно охлажденной центрифуге при 10 000 об./мин в течение 10 мин. Рассчитывали отношение концентраций GSH / GSSG: величину отношения менее 10 оценивали как критическую, что свидетельствовало о функциональной недостаточности антиоксидантной системы [4].
Статистическая обработка результатов проводилась методами вариационной статистики на персональном компьютере с использованием программы Statistica 6.1 (StatSoft Inc, USA). C использованием критерия Шапиро – Уилка были проведены анализ нормальности распределения признаков и анализ равенства дисперсий. Для признаков, распределения которых отклонялись от нормального, были использованы методы непараметрической статистики – U-критерий Манна – Уитни. Данные представлены как Med ± IQR (25–75 %). Для определения статистической значимости отличий между качественными признаками применяли критерий хи-квадрат (χ2) с поправкой Йейтса, при значении ожидаемого явления менее 10 применялся точный критерий Фишера (F-критерий Фишера). Рассчитывалась прогностическая значимость показателей фракций глутатиона6, а также риск возникновения дисбаланса его фракций у лиц, работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей. Для сравнения вероятности исхода в зависимости от фактора риска составляли четырехпольную таблицу сопряженности, рассчитывали относительный риск (RR) и его 95%-ный доверительный интервал (95 % ДИ). Показатель считался положительным при его значении > 1. Различия считались достоверными, если доверительный интервал данного показателя не включал в себя единицу. Для определения влияния фактора риска на вероятность исхода определяли отношение шансов (ОR) и 95%-ный доверительный интервал (95 % ДИ). Критический уровень значимости результатов исследования принимался при p < 0,05. Значения p от 0,05 и до 0,1 включительно расценивались как тенденция.
Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены данные спирометрии у обследованных.
В ходе проведенных исследований было установлено, что работающие 2-й и 3-й групп в основном не предъявляли жалоб на состояние здоровья, несмотря на выявленные функциональные признаки нарушения легочной вентиляции в группе 3 (величина МОС 75 % колебалась от 37 до 68 %). У пяти лиц данной группы были выявлены начальные признаки пХНБ – периодически возникающий кашель, небольшая одышка, которым работающие не придавали особого значения. Средняя величина МОС 75 % в группе 3 была достоверно ниже по сравнению с группой 2, где величина МОС 75 % колебалась от 79 до 98 % ( р 2,3 = 0,002, критерий Манна – Уитни) и достоверно превышала величину МОС 75 % в группах 4 и 5 на 20–29 % ( р 3,4 =0,02; р 3,5 =0,012, критерий Манна – Уитни).
Результаты исследования уровней глутатиона и его фракций в крови обследуемых представлены в табл. 2.
При анализе полученных данных были выявлены достоверные различия в количественном содержании глутатиона и его фракций между контрольной группой и группами 3, 4 и 5. Между группами 1 и 2 достоверные различия выявлены только в содержании GSSG и величине GSН / GSSG ( р GSSG 1,2 = 0,023; р GSН/GSSG 1,2 = 0,01, критерий Манна – Уитни). Следует отметить, что у работающих лиц с функциональными признаками нарушения легочной вентиляции (группа 3) выявлены достоверные различия в количественном содержании глутатиона и его фракций, по сравнению с работающими лицами без признаков нарушения легочной вентиляции (группа 2): ( р ТG 2,3 = 0,015; р GSSG 2,3 = 0,01; р GSН/GSSG 2,3 = 0,019; р % GSSG 2,3 = 0,021, критерий Манна – Уитни).
Для расчета диагностической чувствительности, специфичности и прогностической значимости показателей фракций глутатиона были отобраны показатели, уровни которых во всех группах обследуемых лиц (№ 2–5) достоверно отличались от их уровней в контрольной группе. На основании данных, представленных в табл. 2, были выбраны показатели GSSG и GSН / GSSG. Диагностическая специфичность для данных маркёров составляла 93,2 и 88,6 % соответственно. В табл. 3 представлены диагностическая чувствительность и прогностическая значимость фракции GSSG и коэффициента GSН / GSSG у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей и больных бронхолегочной патологией.
Таблица 1
Параметры спирометрии у обследуемых, Med ± IQR (25–75 %)
|
Группа |
ФЖЕЛ, % |
ОФВ 1 , % |
МИТ |
МОС 75 % |
|
Группа 1 (контроль), n = 44 |
100,6 (95–113) |
98,5 (94–106) |
0,86 (0,80–0,98) |
82 (80,1–85,2) |
|
Группа 2 (МОС 75 % от 70 % и более), n = 55 |
105,8 (96–117) |
95,4 (91–101,2) |
0,92 (0,83–0,98) |
89 (81,0–96,0) |
|
Группа 3 (МОС 75 % менее 70 %), n = 39 |
98,4 (88,7–102,5) |
100 (96–109) |
0,89 (0,81–0,95) |
58 (46,5–64,0) |
|
Группа 4 (больные пХНБ), n = 29 |
65,5 (58–74) |
59 (54–71,5) |
0,78 (0,73–0,85) |
46 (41,8–49) |
|
Группа 5 (больные пХОБЛ), n = 78 |
62 (61–75) |
50 (52–63) |
0,65 (0,65–0,69) |
41 (38,7–43) |
П р и м е ч а н и е : ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, в % от должного; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду, в % от должного; МИТ – модифицированный индекс Тиффно; МОС 75 % – максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 75 % от ФЖЕЛ.
Таблица 2
Количественные показатели глутатиона и его фракций у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей, больных пХНБ и пХОБЛ, Med ± IQR (25–75 %)
|
Показатель |
Обследованные |
||||
|
группа 1 (контроль), n = 44 |
группа 2 (МОС 75 % от 70 % и более), n = 55 |
группа 3 (МОС 75 % менее 70 %), n = 39 |
группа 4 (больные пХНБ), n = 29 |
группа 5 (больные пХОБЛ), n = 78 |
|
|
Фракции глутатиона (референтные значения) |
Количество глутатиона и его фракций, Med ± IQR (25–75 %) |
||||
|
ТG (900–1500 мкмоль/л) |
1270,8 (1145,8–1370,5) |
1269,5 (1128,5–1401,3) |
993,9 (856,1–1121,5) |
1000,1 (891,3–1101,1) |
968,2 (820,1–1060,2) |
|
GSН (750–1300 мкмоль/л) |
1072,5 (1002,5–1272,8) |
1035,6 (910,0–1144,5) |
990,5 (933,3–1077,6) |
806,7 (632,5–869,9) |
783,4 (584,2–929,4) |
|
GSSG (45–100 мкмоль/л) |
62,6 (28,8–109,6) |
96,0* (71,5–123,4) |
110,8* (87,5–164,5) |
109,4* (71,7–127,4) |
99,7* (49,1–129,8) |
|
GSН / GSSG (от 10 и более) |
19,6 (9,9–40,9) |
11,1* (6,8–13,3) |
8,7* (5,9–11,9) |
6,7* (4,7–11,5) |
8,7* (5,8–14,6) |
|
% GSSG от ТG (менее 10 %) |
4,0 (2,6–7,2) |
4,1 (2,9–8,8) |
9,0 (7,9–13,7) |
11,4 (7,1–14,4) |
9,3 (6,0–12,9) |
П р и м е ч а н и е : * – р (критерий Манна – Уитни) – статистически значимое различие в содержании GSSG и величине GSН / GSSG с контрольной группой ( p < 0,05).
Таблица 3
Диагностическая чувствительность и прогностическая значимость GSSG и GSН / GSSG у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей, %
|
Показатель (референтные значения) |
Обследованные |
||||
|
группа 1 (контроль), n = 44 |
группа 2 (МОС 75 % от 70 % и более), n = 55 |
группа 3 (МОС 75 % менее 70 %), n = 39 |
группа 4 (больные пХНБ), n = 29 |
группа 5 (больные пХОБЛ), n = 78 |
|
|
Диагностическая чувствительность (частота выявления повышенных ( ↑ ) и пониженных (↓) значений, %) |
|||||
|
GSSG (45–100 мкмоль/л) |
6,8 ( ↑ ) |
50,9 ( ↑ ) |
58,9 ( ↑ ) |
55,2 ( ↑ ) |
44,9 ( ↑ ) |
|
GSН / GSSG (от 10 и более) |
11,4 (↓) |
52,7 (↓) |
53,8 (↓) |
62,1 (↓) |
61,5 (↓) |
|
Прогностическая значимость, % |
|||||
|
GSSG (45–100 мкмоль/л) |
- |
88,2 |
89,6 |
89 |
86,8 |
|
GSН / GSSG (от 10 и более) |
- |
82,2 |
82,5 |
84,5 |
84,4 |
Анализ полученных данных показал, что повышенный уровень GSSG (более 100 мкмоль/л) в группах 2–4 выявлялся с частотой более 50 % (диагностическая чувствительность). В группах работающих в условиях воздействия аэрозолей диагно- стическая чувствительность была одинаковой (χ2 = 2,045; p2,3 = 0,153) и достоверно превышала данный показатель в группе контроля в 7–8 раз (F = 0,00007; p1,2< 0,05; F = 0,00000; p1,3 < 0,05). Аналогичные результаты были получены в группах больных пХНБ и пХОБЛ: диагностическая чувствительность GSSG в данных группах не отличалась (χ2 = 0,534; p4,5 = 0,466) и достоверно превышала данный показатель в группе контроля (F = 0,00001; p1,4<0,05; F = 0,00001; p1,5<0,05).
Пониженный уровень GSН / GSSG (менее 10 ед.) выявлялся с частотой 50–60 % во всех группах обследованных лиц. В группах работающих в условиях воздействия аэрозолей диагностическая чувствительность коэффициента GSН / GSSG не различалась (χ2 = 0,588; p = 0,444) и достоверно превышала данный показатель в 4–5 раз в группе контроля (χ2= 10,783; p 1,2 =0,002; χ2= 15,426; p 1,3 <0,001). В группах больных пХНБ и пХОБЛ диагностическая чувствительность GSН / GSSG также была одинаковой (χ2 = 0,30; p = 0,863) и достоверно превышала данный показатель в группе контроля (χ2=18,542; p 1,4 <0,001; χ2=26,818; p 1,5 <0,001).
Выявлена высокая прогностическая значимость (80 % и более) для показателей GSН / GSSG и GSSG при воздействии аэрозолей на организм работающих. Был установлен значимый риск нарушений отношения фракций глутатиона GSН / GSSG у работающих в условиях воздействия аэрозолей ( RR = 3,208; 95 % ДИ (1,143–9,002); p < 0,05). Показатель относительного риска свидетельствует о влиянии промышленных аэрозолей фиброгенного типа действия на развитие нарушений в работе системы глутатиона. Установлено, что у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей шанс выявить нарушения в работе системы глутатиона увеличивается в 12 раз ( OR = 11,632; 95 % ДИ (2,369–57,099)), у больных пХНБ – в 11 раз ( OR = 10,632; 95 % ДИ (2,008–56,334)), у больных ХОБЛ – в 10 раз ( OR = 10,400; 95 % ДИ (2,192–49,346)) относительно работающих контрольной группы.
Таким образом, полученные данные показали, что более чем у половины работающих в контакте с промышленными аэрозолями выявляются негативные изменения в системе глутатиона, что свидетельствует о нарушении окислительно-восстановительного баланса, развитии ОС и снижении антиоксидантной защиты с участием глутатиона. Подобные изменения были выявлены и у больных бронхолегочной патологией – пХНБ и пХОБЛ, находившихся в постконтактном периоде. Несмотря на то, что контакт с промышленными аэрозолями был прекращен, система глутатиона, независимо от проводимой терапии у больных хронической бронхолегочной патологией, оставалась нарушенной, и механизм этих нарушений требует более глубокого изучения. Следует отметить, что глутатион относится к неспецифическим биомаркерам антиоксидантной защиты организма, а его прогностическая роль в развитии того или иного заболевания, по-видимому, будет зависеть от экзогенных факторов риска, воздействующих на работников. В профессиональной патологии чрезвычайно трудно выявить высокоспецифичные информативные тесты для того или иного профессионального заболевания, поскольку в их развитии важную роль играют вредные факторы производственной среды, которые помимо непосредственного влияния на органы и системы организма могут негативно воздействовать на биомаркер и его метаболизм. В связи с этим возможность использования в профпатологии тестов с чувствительностью более 50 % и прогностической значимостью не менее 80 % вполне оправдана.
Проведенный в статье анализ информативности фракций глутатиона показал, что восстановленный глутатион, несмотря на высокую специфичность (снижение его величины не было выявлено ни у одного обследуемого контрольной группы), имел низкую чувствительность (7,5 % у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей и 42 % у больных хронической бронхолегочной патологией). Его применение возможно лишь в качестве показателя прогрессирования заболевания и развития осложнений. Большей информативностью обладают фракция окисленного глутатиона и величина отношения восстановленного глутатиона к окисленному. Данные показатели имеют достаточно высокие диагностические специфичность (более 80 %) и чувствительность (более 50 %) во всех группах обследуемых лиц. Их применение возможно как для формирования групп среди лиц, работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей, для углубленного мониторинга их здоровья, так и в качестве показателей риска развития бронхолегочной патологии. При пХНБ и ХОБЛ, вызванных воздействием промышленных аэрозолей, данные показатели могут свидетельствовать о неблагоприятном прогностическом течении заболеваний и эффективности проводимой терапии.
Выводы. Безусловно, трудно определить причинно-следственные отношения между развитием той или иной патологии и нарушениями в системе глутатиона, требуются более углубленные исследования. Полученные результаты не дают прямого доказательства участия глутатиона в развитии бронхолегочной патологии, в частности пХНБ и пХОБЛ, поскольку его функции слишком разнообразны. Хотя нельзя не отметить, что снижение антиоксидантной защиты, в которой глутатион играет первостепенную роль, приводит к высокому уровню оксидативного стресса, который является одним из важных звеньев в развитии ХОБЛ. Однако на проведение лечебных и профилактических мероприятий, направленных на снижение избыточного количества свободных радикалов и повышение антиоксидантной защиты организма человека, включая систему глутатиона, обращено недостаточное внимание клиницистов, в том числе профпатологов. Необходимо более тщательное исследование влияния факторов окружающей и производственной среды на систему свободнорадикального окисления и антиоксидантнй защиты.
Исследования показывают, что «антиоксидантные подходы», включая питание, витамино- терапию, нейропротекторные, противовоспалительные средства, которые нейтрализуют активные формы кислорода, могут иметь терапевтическую эффективность при лечении многих заболеваний. Обсуждаются вопросы применения глутатиона и его метаболитов в терапевтической практике [22–24].
На основании проведенных исследований были выбраны фракция окисленного глутатиона и коэффициент отношения восстановленного глутатиона к окисленному как наиболее информативные прогностические показатели риска ухудшения здоровья работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей и возможного развития у них бронхолегочной патологии.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Список литературы Глутатион как прогностический фактор риска нарушения здоровья работающих лиц
- Измеров Н.Ф., Бухтияров И.В., Прокопенко Л.В. Концепция осуществления государственной политики, направленной на сохранение здоровья работающего населения России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2014. - № 9 (258). - С. 4-7.
- Schafer F.Q., Buettner G.R. Redox environment of the cell as viewed through the redox state of the glutathione disulfi de/ glutathione couple // Free Radic. Biol. Med. - 2001. - Vol. 30, № 11. - P. 1191-1212. DOI: 10.1016/s0891-5849(01)00480-4
- Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in heart disease / J.N. Peoples, A. Saraf, N. Ghazal, T.T. Pham, J.Q. Kwong // Exp. Mol. Med. - 2019. - Vol. 51, № 12. - Р. 1-13. DOI: 10.1038/s12276-019-0355-7
- Бабак О.Я. Глутатион в норме и при патологии: биологическая роль и возможности клинического применения // Здоровье Украины. - 2015. - № 1. - С. 1-3.
- Emerging mechanisms of glutathione-dependent chemistry in biology and disease / Y.M.W. Janssen-Heininger, J.D. Nolin, S.M. Hoffman, J.L. van der Velden, J.E. Tully, K.G. Lahue, S.T. Abdalla, D.G. Chapman [et al.] // J. Cell. Biochem. - 2013. - Vol. 114, № 9. - Р. 1962-1968. DOI: 10.1002/jcb.24551
- Shahid S.U., Shabana, Humphries S. The SNP rs10911021 is associated with oxidative stress in coronary heart disease patients from Pakistan // Lipids Health Dis. - 2018. - Vol. 17, № 1. - Р. 6. DOI: 10.1186/s12944-017-0654-8
- Investigating the causes for decreased levels of glutathione in individuals with type II diabetes / M. Lagman, J. Ly, T. Saing, M.K. Singh, E.V. Tudela, D. Morris, P.-T. Chi, C. Ochoa [et al.] // PLoS One. - 2015. - Vol. 10, № 3. -Р. e0118436. DOI: 10.1371/journal.pone.0118436
- Inadequate cytoplasmic antioxidant enzymes response contributes to the oxidative stress in human hypertension / F.J. Chaves, M.L. Mansego, S. Blesa, V. Gonzalez-Albert, J. Jiménez, M.C. Tormos, O. Espinosa, V. Giner [et al.] // Am. J. Hypertens. - 2007. - Vol. 20, № 1. - Р. 62-69. DOI: 10.1016/j.amjhyper.2006.06.006
- Iskusnykh I.Y., Zakharova A.A., Pathak D. Glutathione in Brain Disorders and Aging // Molecules. - 2022. - Vol. 27, № 1. - P. 324. DOI: 10.3390/molecules27010324
- Methodological fallacies in the determination of serum/plasma glutathione limit its translational potential in chronic obstructive pulmonary disease / S. Sotgia, A.G. Fois, P. Paliogiannis, C. Carru, A.A. Mangoni, A. Zinellu // Molecules. -2021. - Vol. 26, № 6. - Р. 1572. DOI: 10.3390/molecules26061572
- Antioxidant nutrients in plasma of Japanese patients with chronic obstructive pulmonary disease, asthma-COPD overlap syndrome and bronchial asthma / Y. Kodama, Y. Kishimoto, Y. Muramatsu, J. Tatebe, Y. Yamamoto, N. Hirota, Y. Itoigawa, R. Atsuta [et al.] // Clin. Respir. J. - 2017. - Vol. 11, № 6. - Р. 915-924. DOI: 10.1111/crj.12436
- Minich D.M., Brown B.I. A Review of Dietary (Phyto) Nutrients for Glutathione Support // Nutrients. - 2019. -Vol. 11, № 9. - Р. 2073. DOI: 10.3390/nu11092073
- Systematic review and meta-analysis of the blood glutathione redox state in chronic obstructive pulmonary disease / S. Sotgia, P. Paliogiannis, E. Sotgiu, S. Mellino, E. Zinellu, A.G. Fois, P. Pirina, C. Carru [et al.] // Antioxidants (Basel). -2020. - Vol. 9, № 11. - Р. 1146. DOI: 10.3390/antiox9111146
- Brigelius-Flohe R., Flohe L. Regulatory phenomena in the glutathione peroxidase superfamily // Antioxid. Redox Signal. - 2020. - Vol. 33, № 7. - Р. 498-516. DOI: 10.1089/ars.2019.7905
- Wang L., Ahn Y.J., Asmis R. Sexual dimorphism in glutathione metabolism and glutathione-dependent responses // Redox Biol. - 2020. - Vol. 31. - Р. 101410. DOI: 10.1016/j.redox.2019.101410
- GSTM1 modulation of IL-8 expression in human bronchial epithelial cells exposed to ozone / W. Wu, V. Doreswamy, D. Diaz-Sanchez, J.M. Samet, M. Kesic, L. Dailey, W. Zhang, I. Jaspers, D.B. Peden // Free Radic. Biol. Med. -2011. - Vol. 51, № 2. - Р. 522-529. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2011.05.006
- The roles of environmental factors in regulation of oxidative stress in plant / X. Xie, Z. He, N. Chen, Z. Tang, Q. Wang, Y. Cai // Biomed Res. Int. - 2019. - Vol. 2019. - Р. 9732325. DOI: 10.1155/2019/9732325
- Environmental noise and the cardiovascular system / T. Münzel, F.P. Schmidt, S. Steven, J. Herzog, A. Daiber, M. S0rensen // J. Am. Coll. Cardiol. - 2018. - Vol. 71, № 6. - P. 688-697. DOI: 10.1016/jjacc.2017.12.015
- Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2021 report) [Электронный ресурс] // Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD 2021). - URL: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov20_WMV.pdf (дата обращения: 30.10.2022).
- Хроническая обструктивная болезнь легких: федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению / А.Г. Чучалин, С.Н. Авдеев, З.Р. Айсанов, А.С. Белевский, И.В. Лещенко, С.И. Овчаренко, Е.И. Шмелев // Пульмонология. - 2022. - Т. 32, № 3. - С. 356-392. DOI: 10.18093/0869-0189-2022-32-3-356-392
- Anethole dithiolethione lowers the homocysteine and raises the glutathone levels in solid tissues and plasma of rats: a novel non-vitamin homocysteine-lowering agent / D. Giustarini, P. Fanti, A. Sparatore, E. Matteucci, R. Rossi // Biochem. Pharmacol. - 2014. - Vol. 89, № 2. - Р. 246-254. DOI: 10.1016/j.bcp.2014.03.005
- Glutathione dysregulation and the etiology and progression of human diseases / N. Ballatori, S.M. Krance, S. Notenboom, S. Shi, K. Tieu, C.L. Hammond // Biol. Chem. - 2009. - Vol. 390, № 3. - Р. 191-214. DOI: 10.1515/BC.2009.033
- Биологическая роль глутатиона / О.А. Борисенок, М.И. Бушма, О.Н. Басалай, А.Ю. Радковец // Медицинские новости. - 2019. - № 7 (298). - С. 3-8.
- The central role of glutathione in the pathophysiology of human diseases / R. Franco, O.J. Schoneveld, A. Pappa, M.I. Panayiotidis // Arch. Physiol. Biochem. - 2007. - Vol. 113, № 4-5. - Р. 234-258. DOI: 10.1080/13813450701661198